| На "Опушку" |
| За грибами |
АЛЕКСАНДР ЛАСКИН
ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ
Главы из документальной повести
…И на этом деревянном лице вдруг
скользнул какой-то теплый луч…
Гоголь
…Я знал одного чрезвычайно замечательного
человека. Фамилия его была Рудокопов и
действительно отвечала его
занятиям, потому что, казалось, к чему
не притрагивался он, все то обращалось
в деньги. Я его еще помню, когда он
имел только двадцать душ крестьян да сотню
десятин земли и ничего больше…
Гоголь
…Мне бы скорее простили, если бы
я выставил картинных извергов;
но пошлости не простили мне.
Гоголь
ПРОЛОГ ПЕРВЫЙ
Всемогущий Невский
Любил Николай Васильевич пустить пыль в глаза. Оденется попугаем, - бархатная жилетка, кок наверх, галстук небывалой расцветки, - и отправляется на проспект.
Потому-то он и называл Невский витриной, что не раз на этих просторах демонстрировал себя.
Не прятался в шинель, как его бронзовый однофамилец, а резво помахивал тросточкой и тихонько напевал.
Как сказано в его повести? «… вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черт ему не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет».
Трудно не заметить крохотную развеселую фигурку ровно посредине второй фразы.
Сначала подумаешь: да это он! А потом все же решишь: нет, скорее его двойник.
Гоголь с удовольствием описывал всяческие отражения, но в жизни их сторонился. Чуть не вздрагивал, заприметив на ком-то свой галстук или жилет.
Чертыхнется, назовет шельмецом. Что бы им подражать «Вечерам на хуторе», так они принялись за его одежду.
И все же помашет рукой. Улыбнется, всем видом изобразит узнавание.
На том и успокоится. Пусть не Гоголь, а гоголек. Хоть и не родственник, то и чужим не назовешь.
Так и майор Ковалев только увидел молящегося чиновника, как сразу в голове мелькнуло: брат мой! нет, больше чем брат… Нос!
Те же и Пушкин
Стоило в начале девятнадцатого века одному человеку пройтись Гоголем, как уже в середине двадцатого появился Пушкин.
Мало того, что бакенбарды и тяжелая трость, но еще смуглая кожа и толстые негритянские губы.
Не все признали великого поэта. Пошел слух, что это актер, сбежавший со съемочной площадки «Ленфильма».
Смущало то, что побег затянулся. Появился бы раз или два, а то каждый день с ним встречаешься.
Вот он томится у стенда с номером «Правды». Затем выкинул руку, в точности так, как на картине «Пушкин на лицейском экзамене», поймал такси.
Градоначальник сердится…
А чему тут, собственно, удивляться? Ведь к появлению Онегина ленинградцы отнеслись с явным интересом. Наизусть заучивали поэму некоего Хазина, описавшего прогулки этого героя по Ленинграду.
Потом Онегину указали на его место. Заодно досталось и Пушкину. Для чего он без всякого на то разрешения смущает горожан! Раз герою запрещено прогуливаться, то и автору, конечно, тоже.
Все могло закончиться иначе, не вмешайся Значительное лицо. Очень уж ясно ему представилось, как после Онегина с Пушкиным вдруг явится Евгений из «Медного всадника».
Чего у начальников в избытке, так воображения. Мы с вами видим то, что есть на самом деле, а они то, что должно произойти.
Сразу обрисовался человечек, чуть не с кулаками прущий на медного истукана. Что говорить, ситуация нештатная. Пусть обойдется без ущерба хозяйству, но шума будет не избежать.
Только был дан сигнал, сразу приступили к наведению порядка. Как обычно, начали с писателей, а потом взялись за призраков и миражи.
Может, Пушкина и не арестовали, но наверняка постригли, низвели до одного из атомов уличной толпы. Куда-то он теперь направлялся, с кем-то сталкивался, а потом вновь двигался по своей орбите.
…и Николай II
Несмотря на озабоченность начальства, исторические персонажи не перевелись на наших улицах.
После Пушкина вдруг явился Николай II. Тут тоже сходство было разительное: борода, усы, взгляд строгий и, в тоже время, отеческий.
Возможно, из соображений конспирации император носил не полковничью форму, а старое потрепанное пальто.
Когда милиционеры просили его показать документы, они вряд ли вспоминали Гоголя. Уж скорее его персонажа, Черта в ступе.
А как тут разберешься без Николая Васильевича? Опять открываешь его том. Вот он, этот абзац. Всего несколько строчек, а тема исчерпана до конца.
«Чепуха совершеннейшая делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который… наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чем не бывало, на своем месте».
То-то и оно, что «на своем месте». Таково свойство фантома. Он ищет где хочет, возникает то в одном, то в другом конце города. Быстро появился, и сразу исчез. Едва где-то видели бакенбарды Пушкина, бороду Николая Второго, нос майора Ковалева, как их след простыл.
Прохожие в эти минуты не протирали глаза, а только переглядывались лишь потому, что рядом с Адмиралтейством проще представить Пушкина или Онегина, чем какого-нибудь слесаря третьего разряда.
Кстати, уже в те отдаленные времена найти слесаря в нашем городе было сложнее, чем повстречаться с миражем.
Несколько слов о будущем
Иногда Петербург-Ленинград превращается в Венецию в ее карнавальные дни.
Не только разные тени промелькнут то тут, то там, но и улицы преображаются.
Были, к примеру, Воскресенский и Сергиевская, а стали бывший Воскресенский и бывшая Сергиевская.
Казалось бы, просто перемена вывесок, а смысл принципиально иной.
И улицы во многом другие. Хоть и дома те же, но жителей совсем не узнать.
Слово, действительно, не воробей. Не придашь вовремя значения, а потом будет поздно.
Бывает, и фраза как с цепи сорвется. До поры до времени занимала скромное положение внутри абзаца, а вдруг превратилась в палочку-выручалочку.
То одно объяснит, то другое. Казалось бы, ну при чем тут это, но всякий раз получается к месту.
Вот, к примеру, такое высказывание. Сперва оно выглядело странным изгибом ночной фантазии, но потом все окончательно прояснилось.
«… когда весь город превратится в гром и блеск, - писал Николай Васильевич, - мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».
Кстати, Достоевский тут кое-что уточнил. Значит, время двигалось, а ощущения были столь же мучительными. Оставалось только выяснить: «… как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе этот гнилой, склизкий город…»
Так все и получилось. И нескольких десятилетий не прошло, как Петербург оставили его обитатели, а затем куда-то испарился он сам.
ПРОЛОГ ВТОРОЙ
Письмо
Все для Гоголя было непросто. Когда выходило быстро, то он сразу подозревал каверзу.
Не должно быть без мучений. Если без мучений, значит чего-то недостает.
В «Ревизоре» Николай Васильевич изобразил героя, которого отягощает подобная легкость.
Хлестаков не только пьет и ест в любых количествах, но и пишет безостановочно. Уже и не помнит точно, что именно произвел на свет.
Скажете, врет? А ведь в самом деле пописывает. Послание другу сочинил. Едва начал, а уже через полминуты отдал слуге.
Гоголь не только отмечает в ремарке: «Хлестаков (пишет)», но еще заставляет его воскликнуть: «Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила».
Прямо Пушкин. Или Гоголь. Пустой человек, а занят тем делом, которому посвящают себя настоящие творцы.
Да и мотив сомнительный: «Напишу-ка я в Петербург Тряпичкину,… пусть-ка он их общелкает хорошенько».
Ну как это так? Ведь письмо с точки с точки зрения Николая Васильевича - нечто большее, чем письмо.
И слова в письмах он выбирал самые требовательные, исключающие малейший компромисс: «нужно», «обязательно», «непременно»…
Иногда не просто посоветует, но даст задание адресату. А как тот не исполнит, рассердится: «Перечтите раз пять, шесть мое письмо… Нужно, чтобы … вопросы мои сделались бы вашими вопросами…»
Незадолго перед смертью Гоголь потребовал вернуть письма и составил из них книгу. Получилось единственное в своем роде сочинение «Выбранные места из переписки с друзьями».
Странная интонация его последнего труда. Всякий раз он обращается к конкретному лицу, и, в тоже время, ко всем читателям.
Вроде своих приятелей Виельгорского или Языкова наставляет, но и каждого из нас.
Так он относился к слову. Считал, что раз произнесено, то произнесено. Не только рядомстоящим оно будет услышано, но и тем, кто находится на огромной дистанции.
Молитва
Можно не сомневаться: и простую записку Гоголь сочинял, собравшись с духом и повторив про себя молитву.
Сам создал эту молитву для пишущих.
А то как-то несправедливо получается. Дело у сочинителей серьезное и важное, а своей молитвы у них нет.
Кое-кто этим пользуется: раз – и готово. Настрочит что-то и ходит с гордо поднятой головой.
Так вот вам молитва на случай таких соблазнов. Когда потянет выдумывать без внутреннего повода, не забудьте повторить.
«Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем".
Конечно, надо не только произнести, но и попытаться понять.
Как полюбить еще больше? А вдруг герой этого не заслуживает?
Уподобиться, что ли, Плюшкину? Ликовать по поводу всякого теплого луча, как тот радуется огарку свечи?
В том-то и есть смысл молитвы.
Умоляешь: дай полюбить! позволь отыскать невидимые миру жемчужины! разреши увидеть то, что скрыто под толщей хлама!
ГЛАВА ПЕРВАЯ. МАЭСТРИНЬКА
Появление Эберлинга
Этот человек в самом деле был художником Эберлингом.
Случалось кто-то примет Альфреда Рудольфовича за самозванца вроде упомянутого Пушкина, но сразу поймет ошибку. Нет, тут без обмана. Просто не вообразить художника без черной фески и широкой артистической куртки.
Скорее, его двубортный костюм вызывал сомнения. Он и сам не очень любил себя в цивильном виде. Если и допускал компромисс с галстуком, то лишь на время какого-то мероприятия.
Редкий экземпляр. Можно сказать, коллекционный. Сейчас таких и вообще нет, да и тогда оставались единицы. Большинство представителей этой породы исчезли в самых разных направлениях.
Одни умерли, другие уехали за границу, а третьи просто растворились без следа.
Это случалось чаще всего. Прямо какая-то чертовщина. Еще вчера видели, разговаривали, а сегодня телефон глухо молчит.
И никто не спросит: «Куда подевался?» Словно был исчезнувший случайно заблудившимся миражем.
В отличие от них всех художник оказался на удивление живуч. Жил и жил. Причем по тому же адресу, по которому поселился в начале века.
Знаете дом на углу Воскресенского и Сергиевской? Два кольца, два конца… А ровно посредине башенка, примыкающая непосредственно к его мастерской.
Первый прохожий и двадцать шестая квартира
И не то чтобы счастливчик. К примеру, номер квартиры у него был не семь или девять, а двадцать шесть.
В этом умножении тринадцати на два кто-то увидит предупреждение, а Эберлинг только посмеивался.
И то, что Сергиевская и Воскресенского сменили название, его ничуть не смущало.
Ну и что с того, что сменили? Главное, он сам сохранил самые дорогие свои привычки и манеры.
Никогда ни до, ни после не появлялось на этих улицах такого прохожего.
Были, конечно, попытки. И высоко тянули шею, и прямо держали спину, но все же конкуренции ему не составил никто.
Сдачу в кассе Альфред Рудольфович получал с той же церемонностью, с какой целовал дамам ручки, а за покупками шел так, словно направлялся в Колизей.
Не в кинотеатр «Колизей», а в самый что ни есть настоящий римский форум.
Тут дело не в одной в феске, но в прямом профиле и строго выверенных движениях.
И еще в чем-то таком, что и вообще невозможно объяснить.
Хотя улица, в отличие от сцены, не предполагает разделения на планы, он всякий раз умудрялся быть первым. Когда выходил вместе с супругой, она непременно плелась сзади.
Альфред Рудольфович и один хорош, а вдвоем они просто загляденье.
Прохожие непременно спросят друг друга: как думаешь, дочка или внучка?
В самом деле, могла быть внучкой. Все-таки тридцать лет разницы.
Елена Александровна совсем не красавица, но манеры и обхождение на редкость приятные. Можно даже увидеть в ее облике что-то несегодняшнее
Стоит прислушаться к их разговорам, чтобы уже не возникало сомнений.
С трех раз не догадаетесь, как она называет своего мужа. Нет, не «Альфред» или «Альфредушка», а «Маэстринька».
С какой стороны не взгляни на это слово, таким и будет его смысл. Так - «самый уважаемый», а так - «самый родной».
И то, и другое, безусловно, правильно. И уважаемый, и родной. Столь же приближенный к музам, как к нему самому близки ученики и друзья.
Эберлинг на вершинах власти
Вот какая «квадратура круга»! Рядовой квартиросъемщик, подписчик «Ленинградской правды», член ЛОСХа, а, приглядишься, - ископаемое.
|
|
|
Страница журнала "Солнце России" со статьей об А.Р. Эберлинге
(1910) |
Что ни говорите, протеже самого Серова!
Сам-то Валентин Александрович - человек вздорный, в должности придворного живописца не задержался, и указал на своего знакомца по Академии.
С той поры стал Эберлинг персоной, приближенной к императору.
Министр обивает пороги в надежде на аудиенцию, а художник часами просиживает в царском кабинете.
Сколько чая и вина утекло за то время, пока император позировал. Говорили, к примеру, о Чехове. Потом Альфред Рудольфович к этой теме не раз возвращался: уж очень серьезно в эти минуты было лицо его собеседника.
Вскоре он нарисовал Николая Александровича с именем Чехова на устах: улыбка располагающая, выражение лица мягкое, глаза светятся воспоминаниями.
По разному обсуждались в обществе эти сеансы. Насколько балерина Карсавина далека от придворной жизни, но и она полюбопытствовала: «Были ли Вы у Государя и какое было Ваше впечатление?»
Этот вопрос в одном из писем следует понимать так: ну как Ваши чаепития? Не перешли ли Вы уже к обсуждению сфер влияния и распределению министерских портфелей?
Флорентийский гость
Вообще-то позировать - мука мученская, но художник всегда сделает так, чтобы портретируемый остался доволен.
Это дар столь же важный, как талант живописца. Если герой не посматривает на часы, готов еще приложиться к рюмке, то работа, считай, удалась.
Секрет тут простой. Эберлинг не только делает комплименты во время сеанса, но и рисует в том же духе. Поэтому люди на его холстах выглядят посвежевшими, словно они услышали о себе что-то благожелательное.
Самые непреодолимые затруднения Эберлинг преодолевал. А не преодолевал, так игнорировал. Попросту говоря, обходил эти рифы, и оказывался в другом месте.
Зимой наши сограждане прячутся под теплыми одеялами, а он российские холода встречает вдали от Петербурга. На случай особенно сильных заморозков в родном городе купил во Флоренции мастерскую.
Гоголь ехал в Италию для того, чтобы “натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России…”, а Эберлинг ничего такого не имел ввиду.
И в слове “наслаждаться”, в том же письме отброшенном чуть не с гадливостью, не видел ничего дурного.
Да, наслаждаться. Глубже дышать итальянским воздухом, пробуждающем зрение и желание запечатлеть увиденное на холсте.
Зато к весне - опять на Сергиевскую. Столичные жители только приходят в себя, а он уже смеется и разговаривает по летнему громко.
В газетах Альфреда Рудольфовича называли «флорентийским гостем». Возможно, по ассоциации с гостем индийским. В нем и в самом деле было что-то оперное, плохо вяжущееся с петербургской скукой.
Трудно сказать, восклицал ли жандарм перед Александринкой: «Карета господина Эберлинга!», также как он возглашал: «Карета господина Маковского!»
Мог и без кареты обходиться. Правда, громоздкого Константина Маковского карета ничуть не украшала, а Эберлинг выглядел картинно и во время пеших прогулок.
Удивительная занавеска
Всякий момент его жизни имел отношение к красоте.
Стульчак в туалете был особенный. Вряд ли Вы сиживали на таком. Красного дерева, удивительно-удобный, располагающий к мечтательности.
Но предметом его особой гордости была необычная занавеска.
Кто-то другой свою декларацию выбьет на мраморе, а он поместил на прозрачной шелковой ткани.
Зашторишь окно - и во всю его длину открывается латинская надпись: “Искусство для искусства”.
Повсюду стоят цветы в вазах, а на подиуме сидит натурщица Леа.
Не Леа, конечно, а Лена. Правда, обладательнице беломраморной кожи имя Леа подходит больше.
Что такое «искусство для искусства» как не эти цветы, развевающаяся занавеска и ровное свечение в полутьме?
Возможно, кто-то ухмыльнется: “Когда все для искусства, то что же для денег?”
Альфред Рудольфович только пожмет плечами. Если Вы в самом деле заняты искусством, то славы и денег Вам не избежать.
В ожидании заказчиков
Что такое артистизм как не способность прийти к результату кратчайшим путем?
Потому-то настоящий художник в чем-то обязательно фокусник.
Всякий раз ему надлежит обнаружить желтый комочек под фетровой шляпой.
Эберлинг тоже не мыслил искусства без сенсаций. Пусть и не цыпленком, но все же иногда публику удивлял.
Вот отчего его так ценили журналисты. Чувствует этот народ вкус быстрой победы. Едва он отличится, а они уже строчат статьи.
«Из года в год, то на весенней, то у акварелистов, - сообщает журнал «Солнце России», - Эберлинг появляется со своими головками. В них много того небанального изящества, которое характеризует его собственную гамму. Он создал себе имя световыми эффектами, где так искусно пользуется холодным синеватым тоном… Получается призрачное фантастическое впечатление, ничуть не исключающее однако, прекрасного гибкого рисунка… В замкнутых кругах Эберлинг славится своими портретами-миниатюрами, исполненными темперой.…В этом отношении он может конкурировать с Сомовым, да, пожалуй, еще с Бакстом…” 1
И это пишет не какой-нибудь журналюга, набивший руку на восхвалениях, а сам Николай Николаевич Брешко-Брешковский.
Его похвала дорогого стоит. Этот критик умеет только браниться и проклинать.
Если приложит, то так, что потом несколько лет ходишь с отметиной.
Знакомые на улице в первую очередь вспоминают не твое имя и фамилию, а его оценку.
Однажды самого Дягилева назвал «бандитом искусства». Очень уж обидело его требование убрать из Русского музея Семирадского и Маковского.
И ведь прав оказался. Столько лет прошло, а картины любимцев Николая Николаевича на своих местах.
Кстати, статью сопровождает фотографический портрет. На странице они не только существуют вместе, но дополняют друг друга.
В отношении внешности вопрос о соперниках отпадает сразу. Куда Сомову или Баксту. Можно не видеть картин Альфреда Рудольфовича, но сразу признать в нем человека искусства.
Даже Бенуа ему не конкурент. Маленький, кругленький. Не ходит, а бегает. Мелко перебирает ногами, но все же не поспевает.
И Добужинского легко принять за чопорного петербургского чиновника. Из тех, что возьмут ручку и напишут коротко в верхнем углу листа.
Ну там «Принять к рассмотрению», «Считаю возможным» или «Отказать».
А тут сразу видно: артист! Высокий лоб, бородка клинышком, мечтательный взгляд…
При этом поза не расслабленная, а выжидательная. Смотрит в камеру, но всем корпусом развернулся к двери.
Фотограф Карл Булла не старался специально, но запечатлел привычную мизансцену.
Альфред Рудольфович всякий день наготове. Снимет рабочую одежду, оденется в парадный костюм, и ожидает заказчиков.
И сейчас ждет. Скорее всего, это они изображены на портретах за его спиной.
Не всегда заказчики бывают такими пленительными. Одна улыбчивая, в закрытом платье, похожая на итальянку. Другая серьезная-серьезная, с высокой прической и открытыми плечами.
Легкость
А бывает, журналист направляется на какое-то мероприятие и мысленно жалеет о потраченном времени.
Ну вот еще один благотворительный бал. Пусть он чем-то и отличается от предыдущих, но уже не хочется искать разницу.
Кто проявит инициативу, на него посмотрят косо. Потому рука поднимется и сразу опустится. Просто неловко вмешиваться, когда все настроились закругляться.
И все-таки одна художница предложила рисовать «моментальные портреты».
«Подходит к киоску яркого южного типа дама.
– Я хочу «снять» свой портрет.
– Пожалуйста.
– Сколько стоит?
– Сколько Вам не жалко? Это на благотворительность.
– Я согласна дать много, но под одним условием, что бы меня рисовал Эберлинг.
За Эберлингом была командирована целая экспедиция. Долго искали его в большой бальной толпе. Дама, горя крупными бриллиантами, терпеливо ждала. Наконец, ведут недоумевающего Эберлинга
- В чем дело?!
Ему сказали. Он взял картон, уголь и в пять минут… сделал великолепный набросок».
Таким разным был Эберлинг. Обычный человек до тех пор, пока не призвали к священной жертве. И вновь обычный человек после того, как он выплеснул свой дар.
То-то и удивительно, что все происходит без передышки. Дистанция между состояниями столь же короткая, как между фразами «Ему сказали» и «Он взял картон…»
« - Хорошо? - спрашивает дама стоявшего по соседству архитектора Дубинского.
– Очень хорошо, - соглашается Дубинский.
«Таинственная незнакомка» молча кладет на блюдо сторублевый билет и вместе с портретом исчезает….»
Читатель возьмет в руки эту статью и подумает: а все-таки есть в нашей жизни место чуду. То есть, все той же фетровой шляпе и цыпленку под ней.
Деньги
Альфред Рудольфович к деньгам относился не то чтобы безразлично, но без пиетета. Считал их естественным продолжением своих главных достоинств.
Еще в самом начале столетия посмеялся над тщеславием и сребролюбием. Этак беззлобно пожурил коллег: ну что это, господа, у вас за сны?
Симпатичная вышла работа. За столом, положив голову на руки, спит молодой человек. Улыбается и чуть ли не причмокивает от удовольствия.
Это полотно дошло до нас в пересказе. На обратном пути со Всемирной выставки в Сен-Луи, где оно экспонировалось, картина безвозвратно погибла.
Так что приходится верить критикам. От них мы знаем, что юноше снились не только мешки с деньгами, но «…античные идеалы в виде гармоничных классических фигур, и новые течения, представленные букетом декадентского типа женщин».
Непонятно почему он так блаженствовал. Или что-то не разглядел? Особенно выразительным получился букет: «У одной холодные, жестокие глаза, у другой – чувственные алые губы вампира».
Возможно, этот сюжет подсказала Альфреду Рудольфовичу история одного не слишком удачливого конструктора бипланов.
Был один такой. Повсюду носился со своими идеями. Добился встречи у Государя. Тот что-то одобрительное начертал на случайно попавшейся под руку салфетке.
Не помогла салфетка. Подчас одно слово императора горы сворачивало, а тут как-то заклинило.
Другие бы уже давно смирились, но конструктора ничем не возьмешь. Он еще подстраховался, повесив над кроватью транспарант. Написал на нем что-то вроде: «Победит тот, кто верит в победу».
Что ему снилось под этим плакатом? А его белокурой подруге что?
Большое поле, освещенное солнцем. Биплан разгоняется, а за ним бегут десятки людей. Размахивают букетами, подбрасывают в воздух котелки и шляпки.
Он, конечно, в кабине. Смотрит усталыми глазами человека, знающего, что ему предстоит.
Это и есть высокомерный взгляд. Взгляд не глаза в глаза, а с такой дистанции, с которой люди и на самом деле кажутся муравьями.
Просыпались, переполненные впечатлениями. Улыбаются друг другу и спрашивают:
– Мне опять поле снилось.
– И мне.
– Значит, победа, действительно, не за горами.
Эберлинг не страдал ничем подобным. Он не признавал беспочвенных фантазий, радужных перспектив, счастливых обольщений.
И сон у него был крепкий, безо всяких историй и картинок. Просто погрузится в темноту, а потом встанет – и сразу за работу.
Как-то он решил закрепить свое право на сны без обманов. Мало того, что нарисовал этого юношу, но еще и приплюсовал выразительный жест.
И опять же имел успех. Насчет взлетающих в воздух шляпок утверждать не станем, но аплодисменты точно имели место.
Эберлинг сорит деньгами
На второй этаж в мастерской Альфреда Рудольфовича вела лесенка.
Буквально пара ступенек – и вы в небольшой комнате со стеклянным потолком.
В летнее время потолок открывался, подобно окну. Так желающие попадали прямо на крышу.
Однажды при большом стечении народа художник забросил в открытую щель горсть монет.
Впечатление, безусловно, стоило этих денег. К тому же, и потом жест пригодился. Хоть и не имел ввиду никакой корысти, но получилось удачно.
После революции многие из его коллег полезли на стену, а Альфред Рудольфович отправился на крышу.
Обнаружилось там, конечно, не все, но на первое время хватило.
Теперь Эберлинг искал выхода не на голодный желудок. Спокойно так оглядывался: надолго ли новая власть?
Почему не уехал? Ведь зима как раз начиналась. Уже через пару дней под итальянским солнцем, он чувствовал бы себя по другому.
Не понадеялся ли на везение? Особенно обрадовался истории с монетами. Как-то уж очень вовремя он их обнаружил.
К тому же, Альфред Рудольфович любил свою мастерскую. Просто не представлял жизни без такого родного и, главное, ничем не победимого беспорядка.
Все ему тут нравилось. И большое окно, так высоко вознесенное над улицей, что в него видно только небо. И подиум, который уже не существует сам по себе, но только вместе со всеми его героями и героинями.
Ну, а соседи! Бывало, спустишься вечером спросить, нет ли хлеба до завтра, и проговоришь до следующего дня.
Бывший хозяин дома, Петр Петрович Вейнер, - знаменитый издатель и коллекционер.
Еще раз поцокаешь языком около полотен Рубенса или Боровиковского, но больше времени уделишь собранию меню и визитных карточек.
Как Петр Петрович догадался, что именно в этих скромных вещицах сосредоточена ушедшая жизнь?
Что-то гоголевское есть в этом отдельном существовании визитки от владельца или меню от поваров.
Одна незадача с этим Вейнером. В последнее время как ни заглянешь, так он арестован. Эти аресты стали настолько привычными, что Петр Петрович пару раз выторговывал у своих мучителей отсрочку.
А в другой день спускаешься по лестнице – и дверь запечатана сургучом. Как увидел, так съежился. Подумал, что эта печать имеет отношение и к нему.
Не в том смысле, что как-то причастен, а в том, что еще доберутся до его квартиры.
И без того предчувствия были нерадостные. Да и наличность соответствующей. Иногда разница в десять копеек казалась непреодолимой.
К этим ощущениям мы еще вернемся, а пока еще раз окинем взглядом особняк на Сергиевской.
С такими жильцами дом имел право называться Посольством красоты. Стоило бы даже два флага повесить перед входом в знак его особого статуса и полномочий.
Домовладелец Вейнер
Начиналось же все с винокуренного производства. Дом буквально поднялся на дрожжах. Потребовалось немереное количество бутылок для того, чтобы Петр Вейнер-старший смог завершить строительство.
Есть что-то общее между занятиями искусством и производством горячительного. Может, дело в градусе? Как бы то ни было, Дягилевы, Мейерхольды и Вейнеры начинали с винных и пивоваренных заводов.
Особенно хорошо у Вейнера пошло пиво. Оно так и называлось «Вейнеровское». Кто раз попробовал, уже не предпочтет ему тот же напиток марки Корнеева и Горшанова.
И привычку жить с удовольствием тоже привил Вейнер-старший. С его легкой руки повелось каждую неделю устраивать приемы с разговорами и танцами.
Кстати, это он приучил всерьез относиться к меню. Их стали печатать типографским способом, как бы предчувствуя последующий к ним интерес.
Уж, действительно, пища для воображения. Вряд ли мы с Вами когда-нибудь попробуем то, о чем здесь написано.
Консоме селери! Стерляди паровые по-московски! Красные куропатки!
У всякого человека есть главное свойство. Так вот Вейнеры в первую очередь были домовладельцы. За что ни возьмутся, всякий раз выходило что-то вроде особняка.
Журнал «Старые годы», который издавал внук Петра Петровича-старшего Петр Петрович-младший, тоже получился вместительным и удобным.
Чем не дом? Все авторы при своих рубриках, как в отдельных квартирах. Сохраняют суверенность, но, в то же время, представляют некую общность.
И Петербург Вейнер-младший воспринимал как дом. Не в смысле собственности, конечно, но в смысле ответственности.
Не было с тех пор у городских фонарей и решеток такого защитника!
Кто-то пройдет мимо и не заметит, а его журнал поднимет шум. И еще с таким пафосом и дрожанием в голосе, что сразу вспомнишь о том, как Вейнер-старший отчитывал прислугу.
Что такое исчезновение стеклышек из витража в сравнении с последующими утратами, но «Старые годы» безапелляционны: вандализм.
«Труд, знанье, честь, слава»
Для Петра Петровича-младшего не существовало ничего случайного. Раз когда-то он стал лицеистом, то ему казалось, что это навсегда.
И девиз на гербе его рода соответствующий: «Труд, знанье, честь, слава». Как бы предупреждение, что они согласятся со славой лишь после исполнения прочих условий.
В двадцатые годы такие амбиции лучше было скрывать. Речь могла идти только о собраниях на дому, тостах за лицейских преподавателей и паре слезинок в углу глаз.
Еще о заказанных в церкви молитвах за упокой ушедших лицеистов. О праве постоять с непокрытыми головами. Ощутить, что не только ты в эту минуту чувствуешь так.
Вечер памяти ушедших мог сойти за дружескую вечеринку, а панихиду ни с чем не спутаешь. Неизвестно дошли ли молитвы бывших лицеистов до Бога, но в ГПУ они были услышаны.
А как красиво все начиналось! Планировали не на какое-то время, а навсегда. Захоронение Петра Петровича-старшего на Никольском кладбище сделали необычное. Не просто склеп, а часовня с медными капителями.
И строить эту часовню поручили не специальному кладбищенскому архитектору, а тому же Борису Ионовичу Гиршовичу, что проектировал дом на Сергиевской.
Как всегда, имели в виду все семейство. Понимали, что и за границами земного существования следует держаться своим кругом.
Нельзя было и представить, что к старшему Вейнеру никто не присоединится.
У Петра Петровича-младшего и вообще нет могилы, а других родственников разбросало от Твери до Самарканда.
Жилконтора
До революции во главе особняка на Сергиевской стоял просвещенный хозяин, а при Советах власть перешла к домкому.
Вейнеры некоторое время еще проживали на первом этаже, но они подчинялись тем же правилам, что и остальные жильцы.
Располагалась эта организация прямо под лестницей. Отсюда по всем этажам направлялись различные указания и директивы.
Что за любопытные люди эти домкомовцы! Буквально до всего им дело. Поинтересуются, почему не пошел на демонстрацию, а если болел, то где справка от врача.
И вообще претензий хватало. Только лысину и цвет лица не припоминали, как когда-то Акакию Акакиевичу.
Несмотря на то, что от мастерской Эберлинга до домоуправления – всего пара пролетов, он предпочитал переписку.
Сядет за письменный стол, зажжет лампу, долго думает. Старается не просто излагать требования, но что-то важное объяснить.
Иногда поколдует над фразой. И без того выходило витиевато, так еще завернет. Нет, чтобы сказать «квартплата», но назовет ее «непосильным бременем».
«В связи с новой квартирной платой и во избежание наложения на меня непосильного бремени, - писал он, - я прошу Вас приравнять меня к оплате по 10 коп. за рубль, так как я получаю за свою службу в Техникуме 22 рубля, на которые прожить невозможно; это учтено Государством и мне выдается в помощь 16 руб. денежного пособия из дома Ученых, что я свидетельствую прилагаемыми при сем удостоверениями. Никакого другого заработка у меня нет”.
Любой бы посочувствовал художнику, чьи дела находятся в таком расстройстве, но домоуправление настаивало на своем.
Не хотели здесь принимать во внимание, что в его серебряной ложке вместо супа плещется вода!
И на Страшном суде заявление было бы кстати. Ведь в нем рассказывалось о том, как он одолел неблагосклонность судьбы.
Там бы оценили его усердие. Может, даже отдали приказ в небесную канцелярию: выдать ему все, что он недоел и недопил за время земных странствий.
Еще одно заявление
Когда Эберлинг убедился, что его призывы к состраданию не действуют, он поменял стратегию.
«Совершенно обесцененный труд художника, - писал он, - давно уже заставил меня отказаться от всякой рода выполнения заказных работ, это могут подтвердить лица, обращавшиеся ко мне с заказами. Живу я на средства, которые я получаю со службы, и считать меня лицом свободной профессии несправедливо».
Словом, Альфред Рудольфович указывает на явное противоречие, а заодно дает признательные показания.
Что за слепцы в домоуправлении! Дерут с него плату как со свободного художника, а он уже давно художник несвободный.
Правда, для ГОЗНАКа еще не работает, но уже подал заявку на конкурс памяти вождя.
Следовательно, ищет контактов с новой властью и пробует кое-какие варианты. Только почувствует, что одно предложение не проходит, как сразу выдвигает другое.
«Я никоим образом не могу платить за квартиру больше 15 р., с большой натяжкой 20 р. Прошу дать мне совет как выйти из положения»
Опять Эберлинга потянуло советоваться. Вспомнились, как видно, те времена, когда любой его картине предшествовали долгие переговоры.
Бывало, работа занимала меньше времени, чем обсуждение всех тонкостей. Иногда целый день ломают голову, а потом решат, что нужна еще одна встреча в том же составе.
Художник, портретируемый, бутылочка винца…
Порой и это не финал. Выпито немало, а заказчик при своей цене. Жмет руку, называет «талантищем», но при этом говорит: вот и все, что могу предложить.
Торг
Когда Альфред Рудольфович почувствовал, что жизнь начинает меняться, он сделал попытку вписаться в поворот.
Сначала был готов отдать и пятнадцать, и двадцать рублей, а потом предложил кое-что более весомое.
Пусть в постскриптуме, фактически – в придаточном предложении, он высказал замечательную догадку.
А что если расплачиваться не денежными знаками, а непосредственно картинами?
Так прямо и написал: «Может быть, я могу какой-нибудь работой (портреты Ленина или Маркса) дополнить плату за квартиру? А денег достать не могу”.
Вот такое «дежа вю». Сразу вспоминаешь гоголевского Черткова, предлагающего околоточному «изделия своей профессии».
Этот опыт Альфред Рудольфович учел. Уж его-то сюжеты точно отличались благородным содержанием.
Пусть он и нарядил Ленина с Марксом в обычные платья, но выражение на их лицах было таким возвышенным, что хоть сейчас вешай на шею звезду.
Проверка
В давние времена в квартиру Вейнера заглядывали исключительно гости, а теперь зачастили комиссии.
Неравнодушным взглядом рассматривали обстановку. Тыкали пальцами, громко высказывали мнение, требовали открыть шкатулки и сундуки.
Именно тогда проверяющие положили глаз на картину «Вид Босфора» и туалет красного дерева. Недвусмысленно выразили сожаление, что такие добротные вещи спрятаны от посторонних глаз.
Сейчас эти люди вели себя настырно, а когда-то их не пускали дальше прихожей. Вдруг откроется дверь в комнаты и буквально зажмуришься: какая, должно быть, там красивая жизнь!
Теперь можно все рассмотреть. Захочется, постучишь пальцем. Как бы удостоверишься: хороша работа! Еще послужит в случае необходимости власти рабочих и крестьян.
Официальное заключение – документ серьезный, но и тут не удержались от злобного шипа. Так и начали словами: «Шикарная мебель» 2 , вместив в них все свое недовольство.
А дальше продолжали спокойнее. Просто констатировали, что «… живет выше получаемого содержания продажей собственного имущества… на ранее приобретенный посредством эксплуатации капитал. Работает зав. музеем города «Старый Петербург», в бывш. Аничковом дворце».
Члены комиссии сильно потрудились, а все же вызнали, на какие средства существует бывший домовладелец.
Потому проявили такое рвение, что очень сочувствовали другим жильцам. Не могли спокойно смотреть на то, что кто-то купается в роскоши, а другие едва сводят концы с концами.
В какую квартиру ни зайдешь, везде нищета. Различия незначительные. Или «нуждается сильно», или «очень бедный: если достанет кусок хлеба, и то не досыта и не всегда».
Особенно часто прибавляли: «беден мебелью». Как видно, всякий раз чертыхались и поминали Петра Петровича.
Сколько раз уплотняли Вейнеров, а все мало. Уплотнили бы больше, не пришлось бы их соседям жить в тесноте.
Чичиковские фантазии
Не только у Хлестакова, но и у Чичикова были способности к литературе. Зацепится за намек - и вытащит всю историю давно завершенной жизни.
Вот хотя бы он за чтением купчей. Только назовет имя - и крепостная душа преодолевает заточение в буквенном образе.
Произнес: «Пробка Степан» и вообразил этого крестьянина. Топор за поясом, сапоги на плечах. Сколько губерний так исхожено вдоль и поперек…
К сожалению, избрал Павел Иванович коммерческую стезю. А ведь мог стать сочинителем. Очень уж ловко у него получалось сделать из мухи слона.
Вот было бы интересно Чичикову ознакомиться с заключением комиссии. При его способностях он нашел бы много любопытного.
Увидел бы, к примеру, «Куликов Михаил Петрович, сапожник и самоучка» и его представил. Полюбовался отличной выправкой, а потом начал копать глубже.
Подумал: отчего такая бедность? Ведь на все руки мастер. Едва у жильцов что-то прохудится, так сразу к нему. Даже Эберлинг поддерживал с ним отношения на случай непредвиденных протечек.
А вот жена его, Прасковья Николаевна. Фигура куда менее отчетливая, но и не совсем белое пятно.
В Заключении названа «безработной», что следует понимать не как отсутствие занятий, а как тяжкий труд «на случайных поденных работах».
К тому же, «одна комната, бедная мебелью. Еле кормят четырех детей, которые все раздевши».
Слово «раздевши» выдает писавшего. Этот человек тоже обнаруживает себя в одной компании с обитателями квартиры двадцать семь.
Разное бывает сочувствие. К одному подойдешь с вниманием, а к другому с осторожностью. Пусть нет повода для раздражения, но отчего-то объятий не раскроешь.
И оценку дашь неокончательную. Точь-в-точь, по Гоголю: не слишком толст, но и не тонок, не красавец и не дурной наружности.
Так, где-то посредине, пребывал Соколин Василий Яковлевич из квартиры 6.
Сказано о Соколине несколько слов: «Счетовод правления Мурманской железной дороги, бывший священник. Живет прилично, без нужды».
Все, конечно, непросто. Правда, перспектива угадывается. Все-таки начинал как «священник», а стал «счетовод».
В принципе, и об Альфреде Рудольфовиче можно было так написать. И тоже не без доли сомнения. Как это, бывший придворный художник, а живет прилично, без нужды?
Перемена участи
Не подвела Альфреда Рудольфовича интуиция. Со временем жильцы квартир 4, 6 и 8 исчезли в неизвестном направлении, а его никто не тронул.
Ох уж эта мистика чисел! Значит, все же не в цифрах дело, а в том, кто проживает под знаком тринадцати, четырех или восьми.
И вообще Советская власть оказалась не такой букой, как представлялось поначалу.
Все же смогла оценить Эберлинга. На конкурсе памяти Ленина он занял первое место, опередив самих Анненкова и Бродского.
И политизированость домоуправления оказалась умеренной. Рядом с портретами вождей вскоре появилась под лестницей картина «Вид Босфора» и трюмо с зеркалом в круглой раме.
Теперь обстановка выглядела не так тривиально. С одной стороны, Ленин с Марксом, а с другой – Босфор. К тому же, красное дерево уравновешивало красное знамя в красном уголке…
Вскоре симметрия оказалась нарушена. В соответствии со специальным распоряжением эти вещи делегировались на высокий ведомственный этаж.
Обидно, что знаменитый пролив недолго нес свои волны в стенах жилтоварищества, но на новом месте картина оказалась нужней.
И трюмо тоже пригодилось. Как еще следователю успокоить нервы? Пересчитал волны, помножил на бронзовые завитки на зеркале, и опять принимаешься за работу.
Нельзя сказать, что политика тут ни при чем. Прежде чем попасть на Гороховую, зеркало и картина украшали интерьеры бывшего домовладельца.
Представляешь, что Вейнера ведут на допрос. Вернее, не ведут, а тащат силком. Он и в обычной жизни передвигался, опираясь на трость, а тут ноги совсем отказали.
Длинный такой коридор, а одна дверь открыта настежь, словно специально для того, чтобы он все внимательно разглядел.
Они, родненькие. Когда увидел, сразу узнал эти царапины и отколы.
Что остается Петру Петровичу? Улыбнешься и вздохнешь: вот и все, движимое и недвижимое, уже тут.
Деньги как картина
Со временем Альфред Рудольфович стал относиться к деньгам серьезнее. Понял, что дело в точке зрения. Так посмотрел на купюру – это продукты и вещи, а так – произведение искусства.
Когда-то Эберлинг предлагал плату картинами. Возможно, оттолкнувшись от своей идеи, он решил деньги рисовать.
Владимир Ильич на червонце 1937 года – его работа. Многие рассчитывали на этот заказ, но доверили все же ему.
Решение было принято не без скрипа. Немного смущали феска и уж очень артистические манеры. И все-таки откуда-то возникла уверенность, что художник все сделает наилучшим образом.
К тому же, и рисунок убеждал. Не зря было столько вариантов. Сначала не знал, как повернуть голову, а потом понял, что лучше анфас. Затем намучился с лысиной. Все не мог решить: надеть кепку - или оставить как есть.
И еще тщательно поработал над галстуком. Он и в жизни эту деталь выделял. Особенно внимателен был к узлам. Как-то умудрялся по их качеству определять степень самоуважения.
Помнится, Михаил Кузмин говорил о «психологической манере завязывать галстуки».
Подразумевалась та ловкость, с которой некоторые мужчины завершают работу над костюмом.
Всего-то несколько движений - и два оказываются в одном.
Удача
Мало того, что Ленин на купюре носил принадлежащий художнику галстук, но и голову он держал высоко.
Именно так смотрел Альфред Рудольфович, прежде чем сказать: «Мои ученики поступают только в Академию художеств». Отчеканит эти слова, поднимет очи горе, и шествует куда-то мимо.
Для такого самомнения были все основания. Не про Владимира Ильича говорим, но про автора его изображения. Прежде художник трудился на конкретного заказчика, а сейчас он угодил всем.
Как не похвалить себя за то, что твое искусство не только радует глаз, но принимает непосредственное участие в жизни людей.
Это и есть удача. То самое, о чем мечтал наш знакомый конструктор бипланов.
Трудно и вообразить такой фурор. По всей необъятной державе творения Эберлинга сжимали в кулаке, мусолили между пальцами, уверенно и вальяжно доставали из кошелька.
Точность
Как резко повернулась судьба художника Черткова, так и Альфреда Рудольфовича ожидала перемена участи.
В юности появилась у него привычка фиксировать расходы в специальной книжице.
И десять копеек записывал, и пять, и три. Тут дело не в суммах, а в балансе. Чем точнее подсчеты, тем ясней общая картина.
Потому так удивительны новые обстоятельства. Одно дело отнимать и складывать, а другое округлять. Попадется мелочь, а он ее просто отбрасывает как не стоящую внимания.
Государство готово выложить такие деньги не только потому, что ценит его как мастера. Возможно сами картины не так существенны, как готовность к сотрудничеству.
Иногда законченную работу потребуют переписать. Наведешь глянец, полюбуешься издали, как вдруг выясняется, что руке следует лежать иначе. И одна нога должна быть не перекинута через другую, а смирно стоять рядом с правой.
Альфред Рудольфович все так и сделает. И ногу переставит, и направление взгляда изменит. Никогда не будет привередничать и настаивать на своем.
Хорошо потрудился – получи счет. Можно не сомневаться, что ни один рубль не будет забыт. Случается, еще что-то накинут «вследствии повышенных цен».
Как не порадоваться такой пунктуальности. Значит, ты интересен заказчику всегда. Не только в тот момент, когда стоишь у мольберта, но и в минуты ничегонеделания.
Едешь, к примеру, в Москву на сеанс. Лежишь на верхней полке, размышляешь о том, что в договоре указана одна сумма за проезд, а уплачено больше.
Альфред Рудольфович и прежде не только принимал у себя заказчиков, но ради них отправлялся в дорогу. Болгарского короля рисовал по месту его правления. Так и запомнился ему этот портрет: теплом и радушием приема и бескрайними пейзажами за окном вагона.
С тех пор многое изменилось. Начать хотя бы с того, что проснешься в поезде утром и тебе предложат не коньяк, а чай.
Какой-то водянистой стала жизнь. Не та, не та консистенция. И, главное, никому нет дела до его чемоданчика. Словно в нем хранятся не кисти и краски, а бумаги с подписями и печатями.
Знаете такую игру: «Найди десять отличий»? Впрочем, на сей раз Эберлинг старается не выделяться. На нем не клетчатая куртка и феска, а серенький костюмчик с невыразительным галстуком.
Если не знать его в лицо, никогда не подумаешь, что это не скромный совслужащий, а человек свободной профессии.
Мечта и существенность
Ко всем известным пяти чувствам Мандельштам добавлял «ощущение личной значимости».
А после революции какая «личная значимость»! Достаточно того, что сыт и обут.
Унизить человека - значит оттеснить в сторону. А иногда и совсем откажутся от его участия.
Начнет, к примеру, художник писать портрет, а он со своим персонажем не знаком.
Да и чего знакомиться? Еще обнаружишь несходство. Потом умаешься с этим открытием, не будешь знать, как соединить его с требованиями заказчика.
«Когда работа будет вчерне закончена, - сообщают Эберлингу, - Вам будет дана возможность сличить ее с натурой, как было сделано при работе над портретом тов. РЫКОВА».
Если сперва увидел, то это как-то сковывает. Уж лучше рисовать по фотографии, а то на многое пришлось бы закрыть глаза.
Потом, когда картина готова, можно перейти от «мечты» к «существенности».
Представим Эберлинга под звездами Георгиевского зала. Он скромно смешался с ответственными товарищами и во все глаза смотрит на Самого.
Вот его персонаж в свой полный, прямо скажем, невеликий, рост. Глазки узкие, спина сутулая, лицо в рябинах. Есть что-то схожее с изображениями, но отличий больше.
А что рябины? Рябинами можно и пренебречь. И еще так расположить героя в пространстве, чтобы он казался выше.
Эберлинг и раньше кое-что подправлял. Почувствует, что родинка нежелательна, так он родинку поместит в тень. Как бы не сам выполнит обязанности ретушера, а задействует силы природы.
Или рисует Демидову. Из тех самых Демидовых. Сперва растерялся, когда впервые увидел будущую модель.
И все же нашел что-то привлекательное. Замечательной поворот шеи и ярко рыжие волосы.
Нарисовал ее в зеркале со спины. Немного оборотилась на зрителя, а заодно продемонстрировала оба главных своих достоинства.
И еще иногда он использовал грим. Раз природа никак не постаралась, то пусть поработают румяна и тушь.
Так что он и раньше выше всего ставил интересы заказчика. Другое дело, что наравне с обязанностями, у него были и права.
Только он определял место персонажа на холсте. Захочет - посадит его на лошадь, а не захочет - на скамейку или стул.
К примеру, Демидовой хотелось, чтобы она отворачивалась от зеркала как артистка Ермолова у Серова, но Альфред Рудольфович настоял на своем.
Мысли не возникало, что кто-то его остановит: ну какой же стул, когда кресло! отчего же взгляд направо, когда налево!
Теперь скажут губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича, а художник только спрашивает:
– Когда прикажете быть относительно новой работы?
Больше всего готовых на все среди молодых. Встретится такой молодой со своим учителем – и уже с трудом понимают друг друга.
Учитель, с тросточкой, чуть не с моноклем, заприметит где-нибудь у Летнего сада своего воспитанника.
Понятно, что имя уже забыл, помнит только лицо и кое-какие рисунки, а потому задает вопрос в обобщенной форме:
- Как работается, молодой человек?
А тот куда-то торопится, папка под мышкой, лицо потное и встревоженное.
Притормозил, увидев дорогого профессора, но в любую минуту готов сорваться с места.
- Зарабатываем.
В том смысле, что волка ноги кормят. Есть заказ – поем песни, а нет – едим хлеб без масла.
Сказал – и спешит дальше. Не понял, дурачина, что вопрос был об одном, а он ответил о другом.
Условия игры
Да что говорить о персонаже! Иногда и без живописца обойдутся.
Конечно, нужен тот, кто владеет кистью, но все же с осторожностью. То есть не в такой степени, чтобы вышло что-то свое.
Сильно захочешь сделать иначе, то себя не распускай. Держи образец перед глазами и старайся от него не отклоняться.
Не пристало Альфреду Рудольфовичу рисовать по квадратам, а приходится. Поначалу расстраивался, а потом как-то втянулся.
Уговорил себя, что это ничего не значит. Сейчас подыграешь заказчику, а потом отыграешься.
И тоном письма показал, что работа проходная. Такую сделал и сразу забыл. Потому-то тут нужно не вдохновение, а точность с обеих сторон.
«… портрет т. Сталина, - пишет Эберлинг, - я обещаю Вам сделать к 5 июля при следующих непременных условиях: прислать мне Ваш портрет Сталина на несколько дней (это значительно облегчит мне работу), доставить мне подрамник и холст, на кот. мне придется производить работу. Портрет Сталина можно вынуть из рамы и с подрамником для нового портрета его легко доставить».
Что-то очень деловит Альфред Рудольфович. Запамятовал что ли за своими заботами ту максиму, что некогда украшала его окно?
Нет, ничего не забыл. Просто чувствует разницу. Одно дело работа на себя, а другое на заказ.
Вообще Эберлинг не терпел ячества. Считал, что лучше знать свое место, нежели занимать чужое.
Существовал такой лауреат Сталинской премии. На вопрос о судьбе своих картин он отвечал:
– Как у Леонардо. По меньшей мере.
Самозванный Леонардо был еще более ненастоящий, чем упомянутые Пушкин или Николай Второй.
Те хотя бы не настаивали на своем присутствии. Промелькнут рядом, взволнуют мыслью об ином веке, и растворятся вместе с городской пылью.
А этот по любому поводу принимает торжественный вид. Другой на вопрос о планах скажет «не знаю» или «есть дело», а он так ответит, что спросивший поперхнется.
– У меня важная политическая встреча.
И еще застынет на минуту, подтверждая значимость этого события, а потом еще долго не переменит позу.
Как бы такой ленивый памятник. Только и умеющий, что простирать вдаль руку и выпячивать живот.
Случается, и взорвется. То есть из состояния умиротворенного перейдет к неожиданной активности.
Казалось бы, о чем ему еще волноваться, а он буквально мечется по мастерской.
- Не будешь рисовать Ленина, - кричит он сыну, - никогда не станешь человеком.
Как вы догадались, лауреат ошибся. Если кто и вспомнит его «Теркина», то через запятую, в одном ряду с другими подобными творениями.
Была, мол, такая картина. Симпатичный парень улыбался от уха до уха, но особых живописных достоинств как-то не наблюдалось.
Так что Альфред Рудольфович еще молодцом. Точно знает, что он не обманывает ни других, ни, главное, самого себя.
Об обидах и сделанной вещи
Чаще всего художники разговаривают на особом языке. Кто-то посторонний услышит и пожмет плечами.
Это они о чем? Если об этой картине, то отчего не отметят, что им нравится тот или иной персонаж?
Нет, говорят о своем. Ткнут пальцем в какой-то фрагмент и скажут: «Как горит-то, - видите? Хорошо!».
И Альфред Рудольфович тоже порой что-то особо отметит. Иногда вызовет жену с кухни, чтобы похвастаться удавшимся бликом.
И на самом деле получилось. Иногда по три дня ждешь такой удачи. Ходишь вокруг да около, а все не можешь поставить последней точки.
Если и был чем-то доволен, то этой точкой. Пусть и ничтожная подробность, но больно хорошо вышла. И Серов не отказался бы от такой детали.
Какого же потом рисовать заново. Пытаешься что-то сделать в том же духе, а уже не выходит.
Так бывает обидно, что и не передать. Тот блик претендовал стать чуть ли не центром картины, а этот не претендует ни на что.
Попереживаешь и успокоишься. Тогда рефлекс удался, а теперь вышла светотень.
Чудесная такая светотень, полнящаяся изнутри тусклым свечением, которого хватает ровно наполовину.
Альфред Рудольфович придумал для себя оправдание. Всякую переделку рассматривал как повод для новых решений.
Не блик, так светотень. Не светотень, то какой-нибудь неожиданный ракурс.
Не со всяким персонажем можно так обращаться. Существуют герои, которые и в случае необходимости ни за что не переменят позу.
Правда, и художник должен стоять на своем. Или пишешь поверху другую работу, или оставляешь как есть.
Вот Павел Филонов действительно упрямец. И сам человек крайний, и в живописи не терпел компромисса.
То, что для мастеров прошлого называлось картиной, для него было «сделанная вещь». То есть нечто такое, что невозможно переделать.
… и Ленин
Альфред Рудольфович знал человека на купюре. Когда вождь выступал с балкона особняка Кшесинской, художник находился среди публики.
Только нелюбопытные люди движутся по заданной орбите, но Эберлинг всегда попадет куда не надо. Он и сейчас шел прогуляться, а вдруг примкнул к толпе на Троицкой площади.
Вообще-то Ленин его интересовал постольку поскольку. Все же тогда ему позировала Кшесинская. Потому и простоял битый час, что сильно удивился перемене декорации.
Немного приревновал к хозяйке особняка. Чересчур свободно вел себя выступавший. Как бы показывал, что в отдельно взятом доме он уже получил власть.
Альфред Рудольфович тоже выходил на балкон. Правда, курил и наблюдал за жизнью улицы, а не призывал к свержению правительства.
После революции во всех анкетах непременно упоминал о митинге. А еще на словах добавит, что, когда берется рисовать Ленина, всегда начинает с этих воспоминаний.
Нельзя сказать, что особенно лукавил. Ему в самом деле хотелось почувствовать себя моложе. Пусть и в толпе на площади, но все же сорокапятилетним.
Хорошо быть известным художником в расцвете сил. Когда случится непредвиденное то не растеряешься, а отмахнешься. Как бы отбросишь от себя несчастье быстрым хлопком.
Взглянешь на фигурку, которая чуть не свешивается с балкона, а в голову придет что-то легкомысленное.
Казалось бы, надо думать о неизбежных испытаниях, а он вообразил как оратор миновал будуар нашей первой красавицы. Прошел мимо ее необъятной постели, трюмо с зеркалом, зацепился за пуфик – и предстал перед толпой.
Кстати, не забыли изобретателя бипланов? В конце концов ему повезло. Случилось в его жизни и большое поле, и подброшенные в воздух шляпки и котелки.
Через пару минут биплан упал на землю. Так вот это и была удача. Сколько людей разбилось в подобных авариях, а он отделался царапинами.
«Передерг»
И сейчас стараешься смотреть проще, но не всегда получается. Уж очень несправедливые бывают ситуации.
Едва привыкнешь к большим гонорарам, как государство уже одергивает руку. И совсем не потому, что провинился, а просто так.
Неприятная эта мысль: неужели я опять свободный художник? В какой уже раз - фрукты на подносе, туман над рекой! Поневоле начнешь искать контактов, прямо или косвенно предлагать услуги.
Без дела Альфред Рудольфович не сидит, работает впрок. Рассчитывает на то, что когда о нем вспомнят, он все это предъявит.
Еще пишет в разные инстанции. Обычно, начнет благодарностями, а потом резко сворачивает на жалобы.
«Свидетельствуя Вам мою почтительнейшую признательность, обращаюсь к Вам с просьбой: … нет ли какой-нибудь работы для меня. Я совершенно без дела сижу».
Первая строка - чересчур длинная, а вторая – слишком короткая. Кажется, мы наблюдаем за переменой позы. Сначала сильно пригнулся, а затем неловко распрямился.
Это такое судорожное движение, вроде тех, что у персонажей Гоголя подмечал Андрей Белый.
Станешь от такой жизни дерганным! Насколько он человек спокойный, а срывался не раз. Так недавно начал что-то втолковывать, а потом огрызнулся: «… денег достать не могу».
Учитель и ученики
Писание портрета – не только диалог с натурой, но, в первую очередь, переговоры с заказчиком.
А какие решительные жесты во время переговоров? Чего-то добиться можно лишь мягкостью и уступчивостью.
Зато на занятиях Альфред Рудольфович едва не бросается карандашами. Бывает, впрочем, просто прищелкнет, и ученик станет как шелковый.
Или услышит из-за дверей громкий смех, и быстро войдет. Предстанет перед студийцами, а они испуганно замолчат.
Правда, особой робости Эберлинг тоже не поощряет и от работы ждет самостоятельности. Пусть голос тихий, едва прорезывающийся, но все же лучше, чем никакой.
Порой следует долго талдычить, а иногда и вообще говорить не надо. Взглянешь на мольберт, вынешь из шкафчика баночку темперы, и пару раз проведешь кистью.
Продемонстрируешь, что дьявол в деталях. Каких-то пару штрихов – и все сразу встало на свои места.
Студиец ахнет, посмотрит восторженно, а Эберлинг уже направляется к другой работе. Еще краем глаза видит, где необходимо его участие.
Поэтому его воспитанники так ждут занятий. Точно знают, что сегодня вновь случится что-то неожиданное.
Еще им очень нравится его щепетильность и аккуратность. Казалось бы, совсем разные это качества, а все же есть тут что-то родственное.
Мало того, что Эберлинг с детьми «на Вы», но всегда являет собой образец чистоплотности. Целыми днями с красками, но на его куртке никогда не появится самого маленького пятна.
Без учеников Альфреду Рудольфовичу было бы еще труднее. И не только из-за тех скромных средств, которые дает студия, но потому, что рядом с ними он чувствует себя комфортно.
Иногда, знаете ли, мастеру надо взять реванш, ощутить себя в центре внимания. Мол, он не исполнитель чужих требований, но фигура вполне самостоятельная.
Художник, другим словом. В том значении этого понятия, которое оно имело в давнопрошедшие времена.
Кстати, о гонорарах. Случались, конечно, гонорары, но отнюдь не всегда. Увидит, что человек талантливый, а платить нечем, так непременно его от этих тягот освободит.
Еще и сам подкинет. Уйдет ученик из мастерской, и обнаружит в кармане купюру. Мысленно поблагодарит Эберлинга, а дальше шествует как совершенно свободный человек.
Ему интересно с этими тринадцатилетними. Если бы не они, у него было бы куда меньше причин удивляться.
Вот такой, к примеру, повод. Почему-то все студийцы готовы стать модными художниками, а студийкам непременно надо выйти замуж за человека с именем.
Не хотят молодые видеть, что это небезопасно. Вне зависимости от того обвенчался ты со славой или с ее конкретным представителем.
Революция в этом смысле ничего не изменила. Желают лавров – и все. И мужей представляют по аналогии с учителем. Лысина супругу, конечно, ни к чему, а так сходство полное.
Письма и адресат
Прежде Эберлинг проводит до дверей княгиню Голицыну-младшую или дочь русского посланника в Швеции Бютцова, а вернувшись, обнаруживает конверт.
Как говориться, вам письмо. На ощупь чувствуешь размер послания. На эту сумму особенно не разживешься, но в хозяйстве будет не лишним.
Теперь в конверты стало нечего вкладывать. Только объяснения в любви. Потому-то все так расписались. Однажды он получил обращение от целого курса.
Что, казалось бы, могут сказать все сразу, но в данном случае испытываешь доверие. Ясно представляешь недавних студентов Художественно-промышленного техникума за сочинением письма.
Как они мечтали быть понятыми. Чуть не кричали друг на друга, когда хотели что-то уточнить.
Сразу видно - симпатичные ребята. И, безусловно, талантливые. Это - Татьяна Бруни, а это – Алиса Порет. Кто-то так размахнулся, что букв не разобрать, а они четко вывели свои фамилии.
«… Мы не забыли, как по лестнице Вы носили с нами дрова и продукты для столовой, и разделяли с нами все лишения и трудные минуты, все время подбадривая нас и стараясь, чтобы тяжелые жизненные условия не оторвали нас от искусства».
Все правильно. И про вязанки дров, и про бадьи с продуктами. И про то, что их учитель всегда улыбался. Другие выполняли свои обязанности со сжатыми зубами, а он со смешками и прибаутками.
Сейчас письмо читается по-другому. Ко всему тому, что понимали его авторы, приплюсовывается то, что знаем мы.
Был Альфред Рудольфович как маятник. То есть всегда стремился к равновесию. Хоть и отказался от многих тем и героев, но приумножил достоинства галантного кавалера.
Таков наш маэстринька. Ему одному разрешено то, что запрещено другим. Все давно перешли на рукопожатия, а он по прежнему целует дамам ручки.
В новые времена только смутишь подобным обращением, но он неумолим. Самые юные ученицы знают: раз уж они решили стать кем-то, им надо терпеть.
Что-то подсказывало Эберлингу: быть дамским угодником совсем не страшно. И вполне совместимо с угодничеством в других областях.
Родная речь
Нашего человека узнаешь из тысячи. И не потому, что он шумно помешивает чай ложечкой, а из-за присущего ему спокойствия. Это иностранец начнет таращиться, а россиянин примет к сведению и будет жить дальше.
Почему так - можно, а так – нельзя? Лучше не мучиться этими вопросами, а просто обогнуть закрытые зоны и устремиться в открытые воды.
Порой, действительно, сломаешь голову.
Как Вам такая «квадратура круга»? Все знают, что советская почта - самая надежная на свете, но почему-то портрет Ленина ей лучше не доверять.
«… портрет ГОЗНАКом Вам не посылается, - пишут Альфреду Рудольфовичу, - … я думаю, будет осторожней, если Вы сами захватите его».
Так что придется везти по железной дороге, но тоже с предостожностями и под прикрытием специального удостоверения.
«Предъявитель
сего художник тов. ЭБЕРЛИНГ А.Р., - говорится в документе, -
сопровождает при себе в вагоне исключительно ценное художественное
изображение в гор. Москву, чем и вызвано недопустимость другого рода
доставки данного исполнения по заказу Управления ГОЗНАКа».
Как тут
разберешься без перевода? Вроде знаешь каждое слово, но это не
приближает к скрытому смыслу.
Что такое
«исключительно ценное художественное изображение»?
Скорее, речь о персонаже. Потому и сказано о «заказе»,
чтобы больше не оставалось сомнений.
Или такой
пример. Когда Эберлинг рисует председателя правительства, то кто кому
дает сеансы? В другом случае художник не уступил бы первенства, а тут
сказал о поездке «на сеанс к т. Рыкову».
Или еще.
Что нужно для того, чтобы осуществить замысел? Пусть и такой
специфический как «Символический сборный портрет Великих людей
СССР во главе с тов. Сталиным»?
Вы
подумали о вдохновении, ан нет. Оно, конечно, потребуется, но лишь
после того как примет решение Комитет по делам искусств.
Эберлинг и
наброски-то делать опасается. Так прямо и говорит: не считаю вправе.
«Если бы Комитет… непосредственно дал мне возможность
приступить к работе», тогда дело другое.
Везде свои
тонкости. Написал было о том, что собирается дать «ряд
указаний» граверу Ксидиасу, а потом зачеркнул. Возможно, понял,
что в письме руководителю ГОЗНАКа такая решительность неуместна.
Вообще
новоязу особенно доверял. Больше всего почитал слово «товарищ».
Едва в тексте возникнет какое-то имя, он сразу этого «товарища»
приставит.
В одном
письме Альфред Рудольфович переборщил. Обращался к «т.
Енукидзе», а подписался «т. Эберлинг».
Как ему
сказать о том, что в 1898 году ездил в Константинополь? И еще так
представить своих спутников, чтобы они сразу вызывали доверие?
Ну,
конечно, произвести в «товарищи». Пусть «т.т.
Плотников и Глущенко» звучит странно, но зато не подкопаешься.
Эберлинг
не впервые хотел найти опору в этой букве. Он и Ксидиаса сначала
назвал «художником», а потом переправил.
Для
кого-то приставка «т.» необязательна, а Ксидиасу совсем
не лишняя. Ведь не только грек, но бывший греческий подданный. Одно
имя-отчество чего стоит! «Альфред Рудольфович» звучит
невинно в сравнении с «Периклом Спиридоновичем».
Учуял-таки
Эберлинг важную тенденцию. Даже Сталин эту букву выделял. Когда стали
готовить его собрание сочинений, самолично вычищал эти «т.»
перед фамилиями врагов народа.
Потому-то
Альфред Рудольфович держал ухо востро. Кожей чувствовал, что малейшая
оговорка вызовет подозрение: этот язык для него не родной.
Эберлингу
была присуща склонность к широковещательности. Взять хотя бы надпись
на занавеске в его мастерской.
Вряд ли
этот слоган подойдет для новых времен. И потому, что политически
ошибочный, и потому, что уж очень короткий.
Тот, кому больше других
нужны разъяснения и оправдания, наверняка усомнится.
Не отписка
ли? Не попытка ли уйти от прямого ответа?
А
объясниться художнику следовало непременно. И, конечно, в форме куда
более развернутой, чем простое утверждение.
Эберлинг не стал ждать,
когда его попросят, а сам усадил себя за письменный стол.
Почувствовал,
что настала пора усилия на поприще живописи подкрепить словесной
аргументацией.
Не
расстроился, что статью не напечатали. Был уже тем доволен, что это
есть. Когда возникнет такая необходимость, он этот текст предъявит.
И писал,
как видно, не для печати, а для такого случая. Вот, мол, дневник моих
чувств. В нем со всей откровенностью высказал свои мысли об искусстве
новой эпохи.
Хлестаков
врет, как на крыльях летит, а Эберлинг каждый абзац вымучивает. У
него на холсте всякий штрих на месте, но на бумаге чаще выходит
невпопад.
Мысль
простая и короткая, а любая фраза себя больше. И сам видит, что нужна
точка, но никак не удается завершить мысль.
«…
отмечая в ребенке дарованье к изобразительному искусству, - пишет
Эберлинг, - требуется взвешивать его интеллект, имеются ли те
исключительные данные, способные к должному поднятию культурного
уровня, лежащего в основе всякого художественного творчества…».
Прежде он
ограничивался слоганом, а сейчас топтался на месте, переливал из
пустого в порожнее. Вряд ли найдется занавеска, где можно разместить
этот текст.
Статья называлась: «Каким
должен быть советский художник?» По сути, речь шла о том, кем
следует быть ему самому. Кем он уже почти стал, последовательно
отрекаясь от своего прошлого.
В эти годы
Эберлинг задумал картину «Переделка и воспитание трудящихся
людей (на строительстве канала «Москва-Волга»)» и
обратился с просьбой о том, что для «уточнения характеристики
действующих лиц… желательна поездка на места».
Невозможно представить
Альфреда Рудольфовича с киркой и лопатой, но и ему не удалось
избежать «воспитания». Теперь он вспоминал прошлое лишь
для того, чтобы от него отречься.
Даже про
«искусство для искусства» вставил в статью. О занавеске
промолчал, а лозунг упомянул. В том смысле, что его уже ничто с этим
утверждением не связывает.
Он не то
чтобы списывал, но пользовался готовыми блоками. Сперва водрузил
кубик «Подымать культуру и вкусы», а потом кубик
«…достойных нашей эпохи». Так – одно к
одному – эту постройку завершил.
«Лозунг
«Искусство для искусства», бывший стимулом большинства
художников капиталистического строя, - писал он, - должен быть
заменен функциями прямого порядка… Искусству дореволюционному,
отвечавшему главным образом на запросы потребителя, коллекционера, а,
в лучшем случае, вкусам меценатов, больше нет места».
Прямо от отечественных
толстосумов перешел к западным художникам. Сразу и не скажешь,
почему. То ли просто расширял радиус критики, то ли увидел тут
какую-то связь.
Уж не
припомнил ли Щукина и Морозова, которые прикармливали Матисса и
Пикассо?
За Матисса и Пикассо он и
взялся в первую очередь. Невзирая на иностранное происхождение и
всемирную славу, требовал «…навсегда покончить с
влиянием этих художников …»
Когда
желают унизить, фамилию пишут с маленькой буквы или во множественном
числе. А что если сперва пытка маленькой буквой, а потом умножением?
Выходит нет никого по отдельности, а есть «дерены, матиссы и
пикассо».
Еще ему
хотелось посильнее вдарить по этим «Закатам на реке» и
«Рассветам в лесу». Некоторые исключения он допускал
только для натюрмортов.
«Бояться
писать цветы, - утверждал Эберлинг, - как это делают многие
художники, чтобы не оказаться формалистом, нет надобности».
Понятно,
почему цветы. Городской человек всегда предпочтет часть целому.
Месяцами он обходится без пейзажей, но не проживет и дня без букетов
в вазе.
Целый год
по его мастерской бродят запахи. Сильнее всего духи и краски, но к
ним непременно подмешивается цветочный дух.
Больше
всего Альфред Рудольфович любил розы. Красота некоторых цветов в
бутоне, а у этих особая стать. Стебель даже не прям, а упрям. Тянется
вверх чуть ли не на полметра, выставляя по пути шипы.
И все же
полной уверенности у него не было. Следовало бы решительно написать
«нет», а он предпочел обтекаемое «нет надобности».
К тому же,
вкрался глагол «бояться». Еще утвердился в
непосредственной близости от существительного «цветы».
Контекст
не предполагал этого слова, но оно почему-то выплыло.
Когда
Эберлинг приступал к новой картине, то почти всегда поначалу терялся.
А как загрунтует холст, успокаивается, вдруг почувствует, что работа
может получиться.
Так и сам
Бог творил. Только попробует и замрет в удивлении. Было совсем
ничего, а теперь нечто. Правда, неясно, что именно, но все же не
пустота.
И Альфред
Рудольфович останавливался перед своим холстом. Все размышлял над
тем, куда на сей раз заведет его кисть.
А как решится, трудится без
устали. Отвлекается лишь на разные привходящие обстоятельства. Все
представляет, что скажут заказчики после завершения работы.
Поэтому
еще до того, как начнет колдовать, семь раз отмерит. Определит, что
лучше сделать по фотографии, а что добавить от себя.
Почему Эберлинг написал
столько портретов? Отчего не нашел для себя нишу вроде занятий
иллюстрацией? Вот Самохвалов тоже брался за эти портреты, а весь
талант отдавал книжной графике.
Любят у
нас риторические вопросы. Словно не понимают, на каком свете живут.
Хочется
ответить читателю в том духе, в котором когда-то Шостакович отвечал
жене.
Однажды
Ирина Антоновна спросила, почему он вступил в партию. В то время с
ним была другая женщина, а потому она имела право не знать.
Дмитрий
Дмитриевич обернул свое лицо сильно немолодого ангела, пронзил ее
лучистым взглядом, и сказал:
- Если ты
действительно ко мне хорошо относишься, то никогда больше не станешь
об этом спрашивать.
Раз
композитор участвовал, то что оставалось художнику? Все-таки Эберлинг
не какой-то фантазер вроде Врубеля или Сомова, а полноценный член
общества. Когда жизнь приобретает другое направление, то он тоже
поворачивается вместе с ней.
Альфред Рудольфович себе
так сказал. Найди преимущества в этих переменах. Знай, что лучше не
будет. Это от зимы можно убежать в Италию, а нынешние обстоятельства
пострашнее зимы.
Правда, и примирившись, ему
не всегда удавалось выдержать тон. До поры до времени при каждом
удобном случае поминал «товарища», а под конец все же
сбивался.
Ну
что это за беседы управляющего со старым графом! «Всегда
готовый к услугам Вашим» или «Весь
остаток моей жизни я буду обязан Вам».
А иногда
просто запутается в порядке слов или, не завершив фразу, начнет
новую.
Как
видно, все же не преодолел неловкости. Чем сильнее старался, тем
больше чувствовал дискомфорт.
Некоторые
люди если и выберут неподходящее выражение лица, то сразу исправят
ошибку.
Вдруг
вспомнят: а тут не положено шутить! Или наоборот: здесь нельзя
оставаться очень грустным!
Глядишь, и маска другая.
Только что была серьезная, с опущенными уголками губ, а уже веселая,
с вечно открытым от смеха ртом.
Эберлинг
часто попадал в зависимость от ситуации, но иногда и сам сделает
что-то вопреки общим ожиданиям.
На
банкете, устроенном по случаю юбилея Рисовальной школы Общества
поощрения художеств, исповедовался.
Все ждали
общих слов в преддверии дружного «Эй, ухнем!», а он решил
рассказать свою жизнь.
Начал
откуда-то издалека, а затем стал медленно приближаться.
Вышло
длинно и с отступлениями. Не зря же он сочинял что-то вроде
конспекта.
И вообще
не то, чтобы репетировал, но заранее картину вообразил.
Трезво
оценил обстоятельства времени и места. Не исключил звяканья столовых
приборов и громких голосов.
Немного
смутился, когда представил. А потом решил, что так лучше. Когда
стараешься перекричать шум, то получается менее выспренно.
За столом
можно не опасаться быть откровенным. Прикоснулся к чему-то совсем
нестерпимому, а потом нейтрализуешь рану горечью иного рода.
Не
исключено, что достал во время тоста конспект. Как бы уравновесил
рюмку в одной руке историей своей жизни в другой.
Эберлинг
обращался то к своему конспекту, то к рюмке, то к собравшимся.
«Я
не смотрел на мою службу в Школе, - говорил он, - как на средство
каких бы то ни было выгод для себя... Если я… беспрерывно
работал и если я в тяжелые годы… остался на своем посту с
учащимися и, не взирая ни на какие жизненные условия, ежедневно ходил
… сюда, чтобы сберечь школьную работу, если я боролся с
невероятными невзгодами, будучи с моей единственной мастерской (около
50 чел. в продолжении 6 мес.) выброшен на произвол судьбы, - без
света, топлива и всякой поддержки административной (об этом
свидетельствует во первых Вер. Конст. и два десятка учеников нынешн.
Академ., с которыми я в конце концов победил)… Никакие почести
не могут мне дать того удовлетворения, которое я получаю от сознания,
что Школа возродилась – при виде этой жизни, которая опять бьет
ключом в этих стенах - и что мы опять в таком большом составе
работаем для блага жаждущих учиться».
Конспект и
есть конспект. Правда, общий смысл просматривается. Надо только уметь
видеть ключевые слова.
«…
не последовал за Бобровским…», «…
без…всякой поддержки…» и, наконец, «я…
победил».
Такова его
биография в последние годы. Не уехал, когда все паковали чемоданы.
Вел уроки в нетопленой мастерской. Старался не из-за денег, а потому,
что не представлял для себя другой жизни.
«И я
бы предложил, - это уже конец тоста, - … выпить за здоровье
Веры Константиновны, которая в одинаковой мере пережила в школе
упомянутые невзгоды».
Мера
действительно у всех одинаковая. Самые привередливые и те
участвовали. Возможно, им пришлось хлебнуть больше других.
По сути,
он выпивал за себя. Пригубил, ощутил легкое жжение и подумал: а на
самом деле молодец! Мог и пропасть бесследно, но все таки выдюжил.
Так они
праздновали. Уже считать перестали, сколько раз возносились,
чувствовали себя призванными, а затем погружались в суету.
И никто не
исповедовался. Какие исповеди при таком графике! Скажут что-то
односложное, а потом опять берутся за рюмки.
Все
хорошо, что под водочку. Да и народ под конец стал менее
требовательный, чем в начале.
Альфред
Рудольфович тоже поднимался. На этот раз без конспектов, а просто за
компанию.
Но один
тост получился не в бровь, а в глаз.
С обычной
своей улыбочкой Эберлинг попросил выпить за то, чтобы жизнь
повернулась к лучшему. Чтобы всем также зарабатывалось, как
рисовалось и пилось.
Умеют
большевики устроиться. Не только найдут для себя место, но еще тянут
родственников.
Есть, к
примеру, какая-то теплая сфера, а они уже все там. Один трудится
начальником, а другие невдалеке.
А еще
случается один человек занимает несколько должностей. И это при том,
что сутки не безграничны. Просто неясно как он справляется со всеми
своими обязанностями.
Вот, к
примеру, Авель Софронович Енукидзе. Он и секретарь Президиума ЦИК, и
руководитель комиссий по делам Большого театра и МХАТ.
Каждый
вечер Енукидзе в театральной ложе. Так ему полагается по должности.
Даже когда зовут на рыбалку, все равно идешь на спектакль.
И брату
Авеля Софроновича Трифону Теймуразовичу тоже нашлось местечко.
Пусть и не
председателя, а только первого управляющего. Зато ответственности не
меньше.
Их и
сейчас воспринимают в связи с друг другом, и прежде они не
существовали сами по себе.
Друзья по
подполью звали их не Авель и Трифон, а «Черный» и
«Рыжий».
Хоть и не
полное сходство с «Рыжим» и «Белым», но
все-таки тоже пара.
Буквально
с первых дней существования ГОЗНАКа Трифон Енукидзе ведает
изготовлением государственных бумаг.
Все на нем
держится. И облигации хлебных займов, и казначейские билеты, и
собственно бумажные деньги.
Казалось
бы, какие тут варианты. Если вождь в профиль, то герб непременно
анфас.
Нет, не
так! Хотя в целом рисунок и повторяется, но детали другие.
Возьмем в
руки червонец образца тридцать седьмого года. С благодарностью
вспомним о том, что Трифон Теймуразович приложил к нему руку.
Сама
бумага не больше ладони, а сколько на ней разместилось. Прямо-таки
заморское царство Садко. По бокам изгибаются виньетки, снизу и сверху
вьются узоры.
Образец червонца 1937 года. Художник А.Р. Эберлинг А, стоит
приглядеться, как из глубины выплывает водяной знак.
Можно
сказать, их совместное творение. Не в том, конечно, смысле, что он
рисовал, а в том, что каждый штрих заранее согласован.
Маловероятно,
что братья Гонкуры как-то разделяли сферы влияния, но отношения
художника и руководителя ГОЗНАКа четко оговорены: «Настоящим я,
нижеподписавшийся, художник Альфред Рудольфович Эберлинг, беру на
себя обязательства исполнить для Управления фабрик Заготовления
Государственных Знаков…, согласно словесным указаниям тов.
Енукидзе размером не меньше натуральной величины, способом, который
признаю наиболее целесообразным, за сумму 500 рублей золотом».
Хорошо
тому, кто не заигрывает с секретаршей и не томится в приемной.
Просто, раскинув руки, входит в кабинет.
Вот бы так
Альфреду Рудольфовичу! Чтобы не склоняться всякий раз в униженной
позе, а брать то, что ему полагается.
К
сожалению, с его анкетой это исключено. Биографию он начинал
придворным художником, а не боевиком революционной дружины.
И все же Эберлинг
приобщился к прошлому управляющего. Не столь далеко вступил в эту
область, но кое-какие ароматы почувствовал.
Однажды в
письме художнику секретарь Енукидзе назвал своего начальника его
подпольной кличкой.
Как бы дал
понять, что вопрос деликатный и он вынужден перейти на неофициальный
тон.
К тому же,
косвенно указал, что в их разговоре незримо участвует кое-кто еще.
Ведь этот незримый когда-то именовал Трифона Теймуразовича Семеном.
«…
все карточки т. Сталина будут Вам на днях возвращены…, - писал
секретарь, - А так как Сем. Тейм. очень нравилась карточка, где т.
Сталин в профиль и еще какая-то, то он просит временно их у Вас
попросить…»
В данном
случае партийная кличка все равно, что домашнее прозвище. Ведь
разговор о почти что родственниках, о славном семействе тифлиских
большевиков.
Только что
Трифон Теймуразович был кто-то неопределенный, то ли он сам, то ли
его брат, а это он в своем первозданном обличье.
Именно что
Семен, смелый подпольщик и руководитель типографии. Пока не Трифон
и, уж тем более, не «тов. Енукидзе».
Так над
ширмой кукольного театра появляется актер. Оказывается, этот грустный
неулыбчивый человек совсем непохож на свой бодрый металлический смех.
Полной
уверенности у нас нет, но уж больно все сходится. Да и сюжет
булгаковский. Было бы странно им не воспользоваться.
Предположим,
воспользовался. Захотел этот абсурд показать и даже умножить, доведя
до логического конца.
В повести «Дьяволиада»
рассказано о том, как братья Кальсонеры погубили делопроизводителя
Короткова. Верней, это нам известно, что братьев двое, а
делопроизводитель был уверен, что это разные воплощения одного.
«Все,
все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки
глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной
ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу
Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он
ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, - что же это такое?»
И затем вторая: «Борода фальшивая - это что же такое?»
Как тут не
помутиться в рассудке? Должность одна, а занимают ее двое. Даже
национальность у каждого из братьев своя. Первый носит черную
ассирийскую бороду, а второй - вышитую малороссийскую рубаху.
Вот-вот. И фамилия такая,
что не сказать речь о множественном или единственном числе.
Что такое
«тов. Енукидзе»? Сколько этих «тов.» и какой
из них имеется ввиду?
Поэтому
рассчитываешь на интуицию. Сначала представляешь, кто конкретно тебе
нужен, а потом стараешься не ошибиться и выбрать правильный вариант.
«Тов.
Енукидзе» звучит отстранено, имя-отчество дистанцию снимает,
упоминание партийной клички говорит о давности отношений.
Перепутал
– и просьба насмарку. А попал в точку, то это уже половина
дела.
Размышляешь, с какой
стороны подойти. Мысленно завидуешь тем немногим, кто, отбросив
всяческие реверансы, пишет просто «Семен».
Подчас
впросак попадал и сам Енукидзе. В смысле не Трофим Теймуразович, а
Авель Софронович.
Как-то звонит ему поэт
Мандельштам.
Секретарша
так и докладывает: звонит Мандельштам.
Авель Софронович берет
трубку и радостно говорит: «Привет, Одиссей». Как видно,
надеется услышать в ответ: «Привет, Черный».
Так у них,
у старых подпольщиков, принято. Все вокруг безвозвратно переменилось,
а они еще пользуются давними паролями.
Поэт не
просто удивился, но разнервничался. Очень уж наглядным было покушение
на его единственность. К тому же, это покушение было отягощено
присвоением любимого им мифологического сюжета.
Конечно,
не все такие трепетные. Альфреда Рудольфовича, например, ничуть не
смущала назойливая зеркальность и никуда не ведущее умножение.
Он даже
находил кое-какие преимущества в том, что все знал наперед. Так за
эти годы набил руку, что всякий раз заранее представлял картину.
Вы,
конечно, тоже ее представляете. Сталин, как пребывающий в полном
здравии, находится ближе всего к зрителю. За ним, в порядке выбывания
из жизни, следуют Ленин, Энгельс и Маркс.
Тут примерно как со
слониками, некогда украшавшими наши столовые. Впереди Самый большой,
а затем мал мала меньше. Вплоть до такого крохотного слоненка, что он
легко разместится между ног вожака.
Бывает, не только секретарь
Авеля Софроновича проговорится, удивительно к месту помянув Семена
Теймуразовича, но и большой писатель. А иногда и двое произнесут ту
же формулу.
Как
Маяковский определял отношения Ленина и Партии? То-то и оно, что
«близнецы-братья». Правда, Владимир Владимирович видел
тут возвышающее тождество, а Михаил Афанасьевич прозревал диагноз.
Обратись
автор «Дьяволиады» за уточнениями к художнику, беседа
могла оказаться прелюбопытной.
Сперва
посмеялись бы над появлением русской словесности из гоголевской
шинели.
Как это,
из шинели? Из-под подкладки? Из двух рукавов? Из под воротника?
Отгибается,
к примеру, фалда, а оттуда выглядывает пяток-другой сочинителей.
Николай
Васильевич им всем – цыц. Мол, не высовывайтесь. Сам же плотно
запахнет полу и подбородком уткнется в воротник.
А еще
поговорили бы о гоголевском пристрастии к двойникам. Герои этого
автора живут не сами по себе, а среди собственных отражений.
Еще когда
писатель почувствовал этот мотив. В «Носе» сказал о
раздвоении личности и той зависимости, которая накрепко связывает обе
половинки друг с другом.
Ну что
Ковалеву нос? Просто разотри и выброси. Так он прямо извелся, прежде
чем встретился с ним на службе в соборе.
Тут бы и
подошли к договору. Пустой такой документик, а, кажется, тоже возник
из шинели.
Вы не на
сроки и подписи смотрите, а на суть. Узнаваемая такая суть, из той же
сермяги, что идет на мундиры и сюртуки.
Можно
прочесть в бумаге сумму золотом, а мы увидим в ней напоминание.
Будто
кто-то свыше нам объясняет, что два сапога - пара, а избранный и
несравненный есть лишь одно из звеньев цепи.
В договоре
все изложено прямо и без околичностей.
«ГОЗНАК дает…
заказ исполнить однотонным рисунком портрет тов. И.В. Сталина в таком
же академическом характере, в каком… исполнен портрет тов.
В.И. Ленина… Размер портрета должен быть не менее портрета
В.И. Ленина, а именно 62Х58».
Не о
сантиметрах речь, но о внутреннем масштабе. В реальности сходство
найти трудно, но в высшем смысле они представляют собой чуть ли не
двойников.
Альфред Рудольфович об этом
никогда не забывает. Когда рисует одного, в голове непременно держит
второго.
Если
собрать эти портреты, то впечатление будет фантастическим. Буквально
глаза вылезут из орбит, как у булгаковского Короткова: вроде все
разные, а приглядишься, на одно лицо.
Чаще всего
подписанию предшествовали разговоры. Эберлинг непременно поторгуется
для солидности, но потом все же соглашается.
Вот
счастье! Вот права! Обязанности тоже, но при полной гарантии
получения названных сумм.
Берешь в руки бумаги, и
душа радуется. Имел бы таланты композитора, непременно положил на
музыку.
Отчего не положить? Написал
же Прокофьев ораторию на слова Коммунистического манифеста.
А тут и по сути оратория,
то есть гармония участников с разных сторон.
Бум! Бум!
Это вступают медные. Начинают уверенно и с надрывом. Сразу берут
самую высокую ноту.
«…
За означенный портрет ГОЗНАК уплачивает художнику Эберлингу 2000 (две
тысячи) рублей и, кроме того, возмещает ему расходы по поездкам из
Ленинграда в Москву и обратно, связанными с исполнением заказа в
размере 200 рублей за поездку туда и обратно, но всего не свыше, чем
за три поездки».
Фьюить-фьюить… Это
уже флейта. Душевно так поет о том, что «из всей суммы ГОЗНАК
уплачивает художнику одну тысячу рублей…»
И опять -
фьюить. То есть уже не тема, а вариация: «Поездки оплачиваются
каждый раз по предъявлении… письменного требования».
Как изменилась жизнь
Альфреда Рудольфовича! Прежде и копейки для него были не лишними, а
теперь прямо в договоре записано его право требовать крупные суммы. И
вообще требовать, то есть разговаривать в резком тоне, а, в случае
необходимости, стучать кулаком.
И
действительно кое что иногда позволяешь. Встанешь в позу на манер
гоголевского героя: «… только уж у меня: ни, ни, ни!…»
и требуешь оплатить железнодорожный билет.
Когда-то
критик Светлов гонорар за портрет Анны Павловой отдавал с
расшаркиваниями.
Буквально в каждом письме
винился: понимаю, что сумма микроскопическая! готов исполнять любые
услуги в счет того, что недоплатил!
Деликатный
этот человек попросит прощения не только за то, что не заехал, но и
за то, что заехал.
Даст
понять, что предпочитает эстетическую точку зрения. И в деловой
записке непременно прибавит: «Мне доставляет огромное
удовольствие – чисто художественное – следить за
возникновением портрета А.П.»
От новых
хозяев жизни не приходится ждать изящества, но он сам поневоле стал
предупредительней.
Эберлинг и
прежде не любил действовать нахрапом, а теперь особенно. Как начнет
политесы, то выйдет не хуже, чем у Светлова.
Захотел что-то выторговать,
то лучше эту процедуру растянуть. Сначала сделай вид, что со всем
согласен, а потом выдвигай свои требования.
Тут уже
без расшаркиваний. Какую-то сущую мелочь и то не забудешь
приплюсовать.
Будешь
бережлив как слуга Хлестакова. Веревочка? Заодно и веревочку!
Подрамник? Пусть будет и подрамник!
Прямо
выскажешь просьбу о повышении гонорара «ввиду трудной работы
(из-за отсутствия фотографического материала и … из-за
повышения стоимости вообще)».
Это что за «стоимость
вообще»? Вряд ли речь о цене компромисса, а скорее о
дороговизне красок и холста.
В
двадцатые годы в ходу было слово «специалист». Так
именовались люди, от которых новая власть еще не решилась избавиться
и предполагала использовать в своих целях.
Эберлинг
мог часами говорить о свойствах композиции, плотности мазка, особых
качествах акварели. Вообще считал себя обязанным не только
приумножать, но и делиться с другими.
С какой
легкостью от современности он переходил к прошлому! Еще минуту назад
был в кругу текущих тем и событий, но сразу приступал к погружению.
Один век минует, затем
другой. Выберет в качестве примера церковь на Арене в окрестностях
Флоренции и начнет рассказывать.
Так и
движется по часовой стрелке, обозревая сюжеты и цветовые сочетания
джоттовских фресок.
Около
каких-то особенно любимых помедлит. В том смысле, что уделит внимание
не только центральным героям, но и второстепенным.
Впрочем, какой же ослик из
«Бегства в Египет» второстепенный персонаж? Раз ему
поручена такая поклажа, то, возможно, и главный.
Знаете это
удивительное создание? У человека жест руки, а у ослика жест ноги.
Иератический такой жест, одновременно уверенный и торжественный.
Еще
Эберлинг призывал учеников искать связи с великими тенями. Утверждал,
что у всякого яблока или графина есть биография. Прежде чем оказаться
рядом с нами они побывали на холстах великих живописцев.
И вообще
все на свете уже кем-то изображено. Буквально шага не сделаешь без
того, чтобы не отметить: это Вермеер! это Коровин! это Грабарь!
И,
действительно, свет в окно льется по-вермееровски, темнота в углу
что-то позаимствовала у Рембрандта, снег тает в точности как у
Левитана.
Поэтому от
учеников он требовал: старайтесь понимать живопись! это так же важно,
как различать разные состояния жизни!
Четырнадцатилетней
школьнице, недавно поступившей в студию, это кажется странным, а все
остальные понимающе кивают.
Почему он,
едва взглянув на ее работу, стал рассказывать о Церкви на Арене? Еще
ослика приплел. Вспомнил, что люди на фреске смотрят тревожно, а
ослик спокойно и мудро.
Что общего между
новоиспеченной «Пионеркой» и творениями великого
итальянца? В том-то и дело, что ничего. Если бы ученица помнила о
Джотто, то ее работа могла получиться.
Вот чего
ему хотелось от воспитанников. Чтобы выполняли задания, а
вдохновлялись знаменитыми шедеврами. Может, думали про себя: а вдруг,
вдохновившись, они немного приблизятся к образцу.
Когда-то Альфред
Рудольфович и себя так настраивал. В юности решил превзойти Ассизские
фрески, особенно в этом не преуспел, но все же извлек кое-какие
уроки.
Случалось,
Эберлингу вспомнится не Церковь на Арене с ее неповторимым осликом.
Уж больно
далека тема от ослика. Скорее надо было бы говорить о наших баранах.
В статье
«Каким должен быть советский художник?» он рассуждал о «…
предначертанном нашей партией «социалистическом реализме,
пустившем первые побеги в творчестве таких художников как Герасимов
Сергей и Ефаев».
Тут и
задача другая. Следовало опередить голоса скептиков и показать, что
он не отдалился от жизни страны.
Вот он, тут. Вместе со
всеми, в общем строю. Чутко улавливает тенденции и пытается им
соответствовать.
И все же,
как Альфред Рудольфович не старался, он так и не смог скрыть
равнодушия. Пусть и не в отношении темы, то лично к двум молодым
мастерам.
Во-первых, тон очень
легкомысленный. Словно окликает кого-то из студийцев. Ну что за
«Герасимов Сергей»! А художника Ефаева просто не
существует, а есть Василий Ефанов.
Да и
соседство сомнительное. Рядом с Ефановым лучше смотрелся бы не
Сергей, а Александр Герасимов. Все-таки Сергей был больше живописец и
реже отвлекался на портреты вождей.
Словом, обмишурился.
Каких-то несколько букв спутал, а впечатление испорчено.
А ведь –
еще раз повторим - не жаловался на память. А уж о мастерах прошлого
знал все. Вспоминал такие подробности, которые и не должны
сохраниться.
Никогда не
забудет о том, что каждый язык имеет свой окрас.
Немецкий
похрустывает, французский мягко стелется, итальянский бурлит и
беснуется.
Так
произнесет фамилию мастера, что можно не объяснять из каких он
краев.
Пусть даже
у художника два или три имени, он продемонстрирует, что ему важны
все.
Ученикам
не справиться с этими многоколенчатыми именами размером чуть ли не с
предложение, а Альфред Рудольфович произнесет их разом.
Словно
речь о каком-нибудь Василии Прокофьевиче или Александре Михайловиче,
а не о Джованни Антонио или Томасе Хендригсе.
Самое
неприятное, что это было сделано как бы исподтишка. На протяжении
всей фразы он оставался серьезен, а под конец позволил себе
фамильярность.
Словно
просунул в дверь голову, выкрикнул дразнилку, а затем скрылся.
Это они-то
«Герасимов и Ефаев»! Словно не авторы знаменитых полотен
«Сталин и Ворошилов в Кремле» и «Встреча артистов
театра Станиславского с учащимися академии Жуковского», а пара
двоечников и драчунов.
Альфред Рудольфович чаще
всего рисует по фотографиям, а Герасимов и Ефанов со своими
мольбертами направляются прямиком в Кремль.
Никто не станет им
позировать, но присутствовать разрешат. Сядут художники в конце
кабинета и стараются ничего не пропустить.
Иногда
вопросы государственной важности при них обсуждаются. Втянут голову в
плечи и сделают вид, что целиком ушли в работу.
Александру
Герасимову не раз выпадала честь сидеть со Сталиным за столом. Пили
чай, обсуждали проблемы социалистического реализма, упоминали тех или
иных мастеров.
То есть
говорил в основном Герасимов, а Сталин в ответ выпустит то длинную
струйку дыма, то короткую.
По длине
этих струек и стараешься понять, в каком направлении вести разговор.
Эберлингу
с Николаем II было куда проще. Художник демонстрирует почтительность,
но и государь ему не уступает. Так и топчутся на месте, словно
Бобчинский с Добчинским.
А
Герасимов ощущает неловкость и за столом. В какой уже раз меряет
взглядом столбик и не понимает, от чего зависят перепады.
Зато в
кресле Президента Академии с лихвой отыграется.
Помните
того гордого собой художника, что предрекал своим работам судьбу
картин Леонардо?
В кабинет Герасимова он
входил чуть не на цыпочках. Никак не мог решить, лучше с улыбкой или
без. Да если и улыбаться, то во всю физиономию или уголками губ?
Что
касается «Герасимова и Ефаева», то всегда можно сказать,
что рука повела не туда.
Не казните за описку!
Потерпите, пока перепишу!
Конечно,
никакой ошибки нет. Если в какой-то момент был искренен, то лишь
тогда, когда называл фамилии живописцев.
Только три
слова, но зато честных. Уже кое-что. Ведь бывает, изведут рулоны
бумаги, а ничего не скажут по существу.
Есть у
Эберлинга разногласия с этими мастерами. При этом предмет спора самый
что ни есть принципиальный.
Вопрос не
больше не меньше состоит в том, как правильно изображать Сталина.
Вешать ему на грудь многочисленные ордена или оставить без ничего.
Альфред
Рудольфович считал: вешать. Никак он не может примириться с теми, кто
рисует вождя в солдатской шинели.
Ну что это
такое? Ни погон, ни фуражки с красным кантом. Все равно, что
изобразить царя в шлепанцах и халате.
Сами-то Ефанов и Герасимов
знают цену отличиям. Как-то не слышно, чтоб отказывались. Иногда и в
гости тащат иконостас. Прямо позвякивают, когда встают для тоста.
И на
других своих полотнах об орденах не забывают. Не только крестьянина,
но и артиста представят при всем параде.
Отчего же
Сталин вот так, налегке? Получается, что для всех одни правила, а для
него другие.
Когда
Альфред Рудольфович рисовал балерину Семенову, то не забыл о ее
правительственной награде.
Изобразил
Марину Тимофеевну в строгом костюмчике неброских тонов.
Не
домашнее, а выходное платье. Да еще орден. Не представить, что эта
уж очень серьезная женщина выходит на сцену в «Жизели» и
«Дон Кихоте».
Кажется, и
по телефону она сейчас беседует по делу, а не просто так. Возможно,
договаривается о машине, которая отвезет ее на ответственную встречу.
Раз
Семенову Эберлинг воспринял таким образом, то как ему изображать
Сталина? Бывает, лицо нарисует в два счета, а потом долго корпит над
аксельбантами.
Когда-то в
юности Эберлинг немного посещал мастерскую Чистякова. Почему
предпочел ему Репина? Да потому, что не во всем с Павлом Петровичем
соглашался.
Великий
человек был Чистяков, но иногда скажет такое, что растеряешься.
Однажды работу над рисунком предложил начать с пятки, а затем
двигаться дальше.
Шла бы
речь об Ахиллесе, то и правильно. А чем виновата обнаженная модель?
Есть у нее кое-что другое, что представляется не менее важным.
Иногда
отвергнешь какую-то мысль, а потом сам к ней вернешься. Тут не в
пятке дело! Пусть и переборщил учитель, а все же нужна точка отсчета.
Как, к
примеру, писать портреты вождей? Конечно, ордена в первую очередь.
Причем не все сразу, а по отдельности. Сперва изобразил эти висюльки,
а потом переходишь к лицу.
Вот откуда
впечатление внушительности. Взглянешь на обилие блестящего и
отсвечивающего, и сразу соглашаешься: царь.
Непростое
было время. В одних случаях позволительно говорить так, а в других
сяк. Не совсем ловко выразился и платишь за это сторицей.
Когда
произносишь имя вождя, изволь присовокупить все, что полагается.
Если роза
– цветок, олень – животное, то Сталин – вождь,
учитель и лучший друг.
Это не
уточнения, а как бы полное имя. Поэтому всякий раз следует повторить
всю формулу, а не какую-то ее часть.
Тем
удивительней, что в переписке ГОЗНАКа нет и следов политеса. Только
иногда назовут должность – вот и все выражение почтительности.
И
разговор с художником простой и короткий. Тут не станут ходить вокруг
да около, а просто перечислят свои требования.
Нет, чтобы
уже на первых подступах к фамилии начать расшаркиваться, но они
сохраняют спокойствие.
Бывало
арестовывали за то, что не вовремя прекратил аплодировать. Может,
просто решил передохнуть, чтобы с новой силой продолжить, но сразу
был уличен.
Так что же
гознаковцам позволено, а другим нет? И решения жилтоварищества не
обходятся без фигур речи, а тут фабрика заготовления государственных
бумаг.
Напишут
без затей: «Требуется нарисовать официальный портрет т. Сталина
на основе фотографий с нумерами 1 и 2, придав положению корпуса менее
интимное, т.е. более прямую посадку, кисть руки опустить
приблизительно как на фотографии N 2 и взгляд направить
непосредственно на зрителя».
Вслед за этими
рекомендациями следует «мнение автора фотографии»:
«Портрет N 2 лучше по своей форме и если художник найдет
возможным изменить фигуру в сторону официальности, то это будет самый
лучший портрет. Глаза осветить как на фотографии N 1. Фон и низ
должны быть растушеваны на-нет».
И все же этот пример еще не
самый сильный. Подчас сам руководитель ГОЗНАКа мог допустить
неосторожность.
Не только
забыл лишний раз склониться, но и вообще выразился неправильно. Сами
слова вроде и допустимые, а их порядок не может не смутить.
«Прилагаемый
портрет (работы Бродского) нельзя признать сколько-нибудь удачным: он
не выражает КАГАНОВИЧА. Его лицо на этом портрете получается
легкомысленным, неумным, совершенно противоположным живому
оригиналу».
Это,
конечно, чересчур. Просто заработался и не заметил, что определения
«легкомысленный» и «неумный» оказались в
опасной близости от имени одного из вождей.
Да и в
отношении Президента Академии как-то не чувствуется пиетета. Мало
того, что его имя непочтительно поставлено в скобки, но еще прямо
высказан упрек.
Что ж Вы
так, Трифон Теймуразович? Ведь не частное письмо! И уж читателей у
него хватало. Лишь тогда, когда ознакомились все кому следовало, оно
попало в почтовый ящик квартиры 26.
Телеграмма А.Р. Эберлингу от управляющего ГОЗНАКом Т.Т. Енукидзе
(1935) А это
случай совсем вопиющий. Хотя письмо написано человеком не только
серьезным, но и материально ответственным.
Уж он-то мог просчитать
последствия. Все-таки не художник, а коммерческий директор. Ему и по
должности полагается быть бдительным.
Письмо А.Р. Эберлингу от коммерческого директора издательства АХРР
(1937). «Со своей стороны
издательство считает необходимым произвести исправление на носу и
значительно смягчить цвет лица (лицо выглядит рукавицей)».
Тут бы
перу остановиться, задрожать мелкой дрожью, упасть как подкошенному
на страницу, но оно разгоняется еще больше.
«…
обращаем Ваше внимание, что портрет предназначен к Октябрьским
торжествам и значительное опоздание в сроке исполнения заказа может
повлечь с нашей стороны изменение стоимости исполнения этого
портрета».
Ну не бережет себя человек.
Сперва указал на бугринки, будто речь шла о лице вроде его
собственного, а затем промахнулся еще раз. Мог призвать к
ответственности в виду приближения праздника, а он написал о
«повышении стоимости».
И не в
какой-то анонимке, а на бланке с печатью. Еще с указанием должности и
фамилии в конце.
Отдаюсь,
мол, на суд советских законов. Сам делаю добровольное признание.
Берите меня, тепленького, готов отвечать за свой длинный язык.
Так жили в
ГОЗНАКе. Иногда за день так намаешься, наруководишься, что язык сам
выговорит: «лицо рукавицей» – и окажется прав.
Что за
тень вырастает на стене? Все увеличивается, заполняет комнату,
вбирает в себя художника и его мольберт?
Как это
сказал другой писатель? «Укрой меня своей чугунной шинелью».
А ведь не
звали Николая Васильевича. Впрочем, что ему приглашения? Он и сам
знает, куда сунуть свой длинный нос.
И его
Агафья Тихоновна тут как тут. Все никак не может выбрать жениха.
Прибавит, вычтет, сложит опять.
«Если
бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да
взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча…»
В этом духе и Трифон
Теймуразович излагал свои пожелания. «Единственное, что мне
кажется приемлемым, - писал он, - это - общая посадка и как раз эта,
наиболее удачная, часть может быть, в какой-то мере, использована
Вами. Таким образом, главнейшей Вашей задачей будет найти и со
свойственным Вам мастерством передать анатомию лица, в особенности же
поработать над выразительностью взгляда».
Каков итог? Посадку рисуешь
как предложено. А взгляд на твое усмотрение. Правда, в направлении,
указанном заказчиком, то есть в смысле усиления значительности лица.
Рецепт
хорошо знакомый. Гоголь-моголь. Как сказала бы наша вечная спутница,
поваренная книга, - перед подачей на стол хорошо перемешать.
Не сотвори
себе кумира, говорили древние евреи. А Альфред Рудольфович творил
кумира каждый день. Прямо на поток поставил производство усов и
густой шевелюры. И еще, конечно, орденов. Нарисовал их столько, что
хватило бы всем жителям страны.
Понятно,
делал это небескорыстно. Подчас к его гонорару прибавлялось нечто
настолько важное, что вообще не измеряется деньгами.
«Когда
работа будет вчерне закончена, - сообщают Эберлингу, работающему над
портретом Кагановича, - Вам будет дана возможность сличить ее с
натурой, как было сделано при работе над портретом тов. РЫКОВА».
То-то и
оно, что «как это было». С этакой философской интонацией.
Чуть ли не с оглядкой на те времена, когда «… Исаак
родил Иакова, Иаков родил Иуду…»
Речь, в
самом деле, о преемственности. О том, что подталкивает того, кто
уходит, и что движет тем, кто придет на его место.
Трудно
назвать это логикой, скорее мотивом. Существуют такие мелодии на
холостом ходу: вроде уже достаточно, а она прокручивается снова.
Вот какие
теперь правила. Только вождь рассядется в кресле, почувствует себя
уверенней, как узнает, что его срок истек.
В марте
тридцать четвертого настал черед Рыкова. В январе ему еще
предоставили слово на Семнадцатом съезде, но лишь для того, чтобы
потом ударить больнее.
Если
Рыкова практически вычли, то Кагановича прибавляли буквально ко
всему. Пока, правда, он занимал место не в центре, а на периферии. То
есть представлял собой не искомую сумму, а один из сочленов
уравнения.
Кое-какие
перемены произошли и в смысле растительности. Железный Лазарь носил
не бороду, а только усы.
Неслучайно,
что усы. Так обозначалось место в одном ряду не с Троцким и Рыковым,
а со Сталиным и Ворошиловым.
Всем
прибавила работы эта перестановка мест слагаемых. Как-то сразу
захотелось, чтобы по левую руку от портрета Сталина красовался
Каганович.
Это так и
называлось: спрос. Словно речь не о картинах, а о женских чулках или
шляпках.
«Большой
спрос на портреты тов. Кагановича, - писал Эберлингу представитель
ГОЗНАКа, - удовлетворяется в настоящее время чрезвычайно плохой
продукцией. Было бы очень желательно, как раз теперь, выпустить
хороший портрет, какой мы вправе от Вас ожидать».
«Как
раз теперь» - все равно, что «как это было». И тоже
не без философской, чуть печальной, подкладки. Мол, теперь было бы в
самый раз, а после еще неизвестно как сложится…
И,
действительно, к концу тридцатых ситуация вновь изменилась. Каганович
уже занимал место не в первом, а во втором ряду президиума. То есть
еще не выпал совсем из гнезда, но явно переместился в тень.
Вот такая
у Эберлинга судьба. Запретили бы ему преподавание, он бы просто
взвыл.
Казалось
бы, вся его жизнь наружу, а вот и нет. Все время о чем-то умалчивает.
Сначала Николая Второго сплавил подальше от посторонних глаз, а потом
Троцкого и Рыкова.
Славная
вышла компания. Если герои в самом деле выходят из портретов, то
какие должно быть перепалки случаются на антресолях.
Впрочем,
это не главная из его тайн. Существовал еще секрет настолько
серьезный, что прежде чем о нем вспомнить, он зашторивал окно.
И не то чтобы боялся.
Просто хотелось отгородиться. Пусть не существует надписи на
занавеске, но атмосфера возникала соответствующая.
Начинало
казаться, что времени нет. Нет не только тридцать шестого или
пятидесятого года, но и вообще ничего.
В чем
эпоха проявляется больше? В крое одежды, величине подъема женской
туфельки, форме шляпки или воротничка.
А если
совсем без одежды? Еще шляпку можно оставить для пикантности, а все
остальное ни к чему.
ГЛАВА
ПЯТАЯ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК
Воспоминания
в жизни Альфреда Рудольфовича занимали огромное место. Иногда он весь
день проводил за раскладыванием фотографий. Все пытался представить,
что случилось после этой тени, солнечного пятна или неожиданно
взвившейся занавески.
А иногда и
хочется заглянуть в заветную папку, но совсем нет возможности. Чаще
всего мешают заказные работы, но бывают и неожиданные обстоятельства.
Вот,
например, такая каверза. Несмотря на то, что сам его облик
служит подтверждением профессорского звания, от него требуют
соответствующий документ.
Мало им,
что ли, высокомерного взгляда, прямой спины и черной фески над лысым
черепом?
Тут дело
не в деньгах. Вернее, не в одних деньгах. Просто захотелось
соотнести внешность и статус. То есть не только казаться профессором,
но и на самом деле быть им.
Альфред
Рудольфович затеял тяжбу по этому поводу. Каждый день ходил в суд,
как на работу. Вынужден был ознакомиться с гражданским кодексом и
делал кое-какие выписки.
Ох, и
неприятное дело, эти суды! Кто еще не попробовал, пусть лучше
поостережется.
Не все же
столь тверды как Альфред Рудольфович. Он-то совсем не растерялся.
Решил, что раз так удачно вышло с жилконторой, то и сейчас должно
получиться.
И,
действительно, все сложилось как нельзя более благоприятно. Только он
приготовился к долгой осаде, как получил выписку из постановления
суда.
Читал эту
бумагу с замиранием сердца. Прямо-таки таял от четких формулировок и
строгих учительских интонаций.
«Леноблпрокуратура,
разобрав заявление художников преподавателей
Художественно-Педагогического Техникума Эберлинга и Левитского о
задержке выдачи им разницы по зарплате считает совершенно
недопустимой волокиту, длящуюся 9 месяцев, по отношению к двум
крупным специалистам».
Так, без всяких колебаний:
выдать – и никаких разговоров. Кому выдать? Да профессору
Эберлингу. Тот, кого вы принимали за доцента, есть самый настоящий
профессор.
Альфред
Рудольфович представил, как засуетится училищная братия, когда
решение станет известно всем.
Возможно
кто-то специально зайдет к директору посмотреть присланную с курьером
бумагу.
На ощупь
попробуют: хороша! Такую не используешь ни для чего, кроме как для
важной переписки.
Сперва
переполошатся, а потом согласятся: ну и что. Решение-то не
окончательное, а промежуточное. Еще неизвестно, как все сложится на
другом ведомственном этаже.
Не в том
дело, что жизнь – штука коварная. Просто всему свое время.
Грош цена такой развязке, которая наступает незамедлительно.
О
дальнейших событиях можно узнать из той же бумаги. Не из самого
судебного решения, а из появившейся вскоре записи в верхнем углу.
Неизвестно
кому принадлежащее перо сообщало, что постановлению дан ход. Пусть
медленный, почти незаметный глазу, но все же неумолимый.
«Квалификационная
Комиссия Всер. Акад. Худ. 19. 12. 1936 г. направила во Всесоюзный
комитет по делам искусства при СНК СССР ходатайство об утверждении т.
Эберлинга Альфреда Рудольфовича в звании профессора живописи. Ответа
от ВКИ пока не поступило».
Такой
невыразительный текст. Только словечко «пока»
останавливает внимание. Оно свидетельствует о нетерпении, с каким
Эберлинг и его коллеги ожидали ответа.
Так и
отвечали друг другу: пока нет. Если бы просто «нет», то
значит совсем отчаялись, но в этом «пока» угадывалась
перспектива.
Как долго
можно надеяться? Сколько сил хватит. Поначалу им казалось, что сил
много, но потом они совсем потеряли интерес.
Все
заметили, что Эберлинг поскучнел. При этом вспоминали, как еще
недавно гордо поднимал голову. Так пассажиры корабля тянут вверх шею,
когда хотят разглядеть берег впереди.
Существует
тщеславие праздное, как бы тщеславие ради тщеславия, а бывает
продуманное и прагматическое.
Альфред
Рудольфович надеялся на звание лишь потому, что хотел немного
облегчить себе жизнь.
Очень уважают у нас титулы.
Где-то пропустят без очереди, а в другой раз и вообще позволят не
приходить.
Глядишь,
сэкономил пару часов. Да еще самого дорогого для художника дневного
времени.
Разные
бывают очереди. Есть общие для всех, а есть по интересам. Это когда
стоишь не в магазине, а в битком набитом коридоре творческого союза.
Такое вот
специфическое наказание. Прежде чем картину купят или возьмут на
выставку, автору следует запастись терпением.
Выйдет
секретарша и выкрикнет твою фамилию. Все поглядят на тебя
сочувственно, а кто-то близстоящий пожмет руку или похлопает по
плечу.
Мол, нам
ли терять надежду! Сколько раз проходили эту процедуру, а еще живы!
Отчего,
спросите, такая напряженность? Ведь там, за дверью, свой
брат-художник. Причем не один, а целая комиссия из братьев и сестер.
Подобные
сюжеты любили в шестидесятые годы позапрошлого века. «Неравный
брак», «Девичник в бане», «Проводы
начальника». Называлось это «жанризм».
И в фамилиях художников
этого направления тоже чувствуется «жанризм». Хоть бы имя
отвлеченно-романтическое, вроде Брюллова или Кипренского, так
Пукирев, Прянишников, Корзухин.
Уж они бы расписали эту
очередь. Получили бы удовольствие от скопления разных оценок и
настроений.
И,
действительно, есть что разглядывать. Один ушел в себя и прислонился
к стенке, другой глазами впился в дверь. Кто-то чуть посветлел лицом:
значит, для него испытания позади.
Хорошо бы
это видеть на холсте в позолоченной раме, а приходится в реальности.
Сперва
показываешь, а потом ожидаешь вердикта. Еще не вынесен приговор, а
уже наступаешь: что у меня не так? полгода работал! десять раз
предлагали заказы, но хотелось чего-то основательного!
Комиссия и
не посмотрит на твои стенания. Не понравится - завернут. Или
потребуют таких переделок, что проще написать заново.
Однажды
придрались к тому, что голова Ленина на картине Альфреда Рудольфовича
вышла слишком крупной. Причем крупная не сама по себе, а в сравнении
с другими.
Как ему
прикажите поступать? Да и возможно ли уменьшить голову вождя?
Альфред
Рудольфович на всякий случай не стал переспрашивать и положился на
свое чутье. Оставил Ленина как есть, но решил переписать фон.
Чуть не
месяц трудился. Ведь холст назывался не «Ленин и Горький»
или «Ленин и Ромен Роллан», а «Ленин выступает на
митинге».
Мысленно
оденешь каждому в толпе шляпу и сравнишь с кепкой Ильича. А потом
сделаешь так, чтобы было не намного больше, но и не особенно меньше.
Если бы
надо было предъявлять законченные работы, он бы не расстраивался. Так
требуют показывать эскизы.
Когда
просят кого-то из бывших студийцев, Эберлинг не возражает. Ребята
молодые, рука не набита. Он и сам часто с ними строг.
Ну а ему
за что? Еще вчера небрежно тыкал пальцем в холсты учеников, а вот и
сам ожидает оценки.
С
волнением входит в кабинет. Старается не особенно выглядывать из-за
своего полотна.
Не хуже их
знает, что требуется. Сам мог бы заседать в выставкоме. Тоже говорил
бы с этаким нажимом: будьте добры, сделать взгляд помягче, а линию
губ потверже.
Самое
обидное, что он известный художник. Некоторые считают, что очень
известный. Он и сейчас часто слышит такое, что потом неудобно
повторить.
Как это
восклицала дама на благотворительном балу? «Я согласна дать
много, но под одним условием, чтобы меня рисовал Эберлинг».
И сегодня
к нему очередь из таких дам. Любые деньги предлагают, но только чтобы
его кисть, наблюдательность, способность предъявить одни качества, а
другие увести в тень.
И все же
Альфред Рудольфович – не романтик, гордо воспаряющий над
подробностями, а реалист. Поднимется над обстоятельствами, но до
конца о них не забудет.
Так и
будет лететь и поглядывать вниз. Хоть и неудобная позиция, но, в
конечном счете, оправданная.
Буквально
на протяжении одного абзаца и оторвется от земли, и проявит
осмотрительность.
К примеру,
начнет с негодования. Не просто обратится в некую инстанцию, а
призовет к ответу.
«…
на полученную повестку, касающуюся моей «дальнейшей»
работы в ЛЕНИЗо я заявляю, поданный три месяца тому назад эскиз на
тему «Перековка людей в СССР» был комиссией отвергнут; на
запрос мой дать мотивы отказа не последовало ответа».
Значит ли это, что он
разрывал отношения? Совсем нет. Даже рассчитывал на скорое
продолжение.
Потому-то
ключевая фраза не в одно коленце, а в два. Сначала написал, что
согласен поработать, а потом попросил его уважать.
То-то и
оно, что сперва согласен. Можно считать, что все остальные его
пожелания к этому согласию прилагаются.
«…
не отказываюсь работать для ЛЕНИЗо, но только на тех же условиях как
я работал везде: с полным признанием меня как первоклассного
мастера с правом заключения договора без предварительных эскизов».
Высказался, а потом
отступил. Увидел со стороны и сразу начал переговоры.
«К
двадцатилетию Октября я мог бы предложить две начатых работы:
Пионерка и 2-е портрет балерины Семеновой, которые я мог бы успеть к
сентябрю нынешнего года».
Сколько
ему пришлось пережить, пока сочинял это письмо! Взывал к
справедливости, предлагал компромисс, просил зайти в мастерскую.
Тут
немного притормозил. Все-таки приглашал не знакомых художников, а
специальную комиссию.
Пусть не
обойдется без хорошего ужина, но в данном случае это ничего не
гарантирует. Могут посидеть с удовольствием, а в официальной бумаге
выскажут свои опасения.
Потому
написал чуть отстраненно. Словно и не жаждет видеть своих адресатов,
а лишь допускает эту возможность.
Вот так,
чуть ли не сердито: «Для осмотра этих работ надлежит приехать
ко мне в мастерскую».
С этими
казенными обращениями одна морока. Бывает не только с фразой
намучаешься, а с одним словом. Все никак не выбрать самое подходящее
его значение.
Например,
«дальнейшее». Одно дело, когда оно в кавычках, а другое
без.
Пока «дальнейшее»
видится ему в кавычках. Вероятно, когда письмо возымеет действие, то
кавычки будут не нужны.
Уж как
далек Альфред Рудольфович от изящной словесности, но тут поневоле
станешь стилистом.
Сначала
написал «на тех же правах», а потом переправил на
«условиях». Все же в слове «права» есть
что-то допотопное. Какой-то намек на права гражданина и даже на биль
о правах.
Эберлинг
выбирал не из худшего или лучшего, но из возможного. При этом никогда
не исключал прямо противопложного варианта.
Он не
только так сочинял разные бумаги, но и писал картины. Начнет портрет
одного человека, а когда закончит, на холсте будет другой.
Если
Эберлинг и проигрывал во второстепенном, то в главном непременно брал
верх.
Казалось
бы, что тот Ленин, что этот. Прищуренный взгляд, рука откинута в
сторону, общее выражение какой-то настырности… Зато кисточка
работает мелко и дробно. Каждый мазок в отдельности, а все вместе
образуют узор.
- Никто до
меня, - чуть ли не хвастается Альфред Рудольфович, - не рисовал
Ленина точками.
Всякий раз
найдет повод для хорошего настроения. Иногда утешится тем, что ему
доверили важнейшую тему, а подчас радуется, что, несмотря на тему,
все же высказал свое.
К тому же, помимо заказной
работы, Эберлинг кое-что писал для себя. Не только натюрморты и
пейзажи, но и портреты вождей.
Однажды
экспериментировал с обликом Верховного главнокомандующего.
Скорее
всего, начал портрет как обычно, подолгу задерживался на орденах и
пуговицах, но потом все же не выдержал.
Оказывается,
немного и надо. Чуть повернул голову персонажа и заставил его
сосредоточиться на одной точке.
Сам
удивился, когда закончил. Сталин глядел недоверчиво, а его нос
налился такой мощью, что явно выступал за границы лица.
Ну
прямо-таки ростовщик. Тот самый, «с лицом бронзового цвета».
И глаза странные. Как сказал бы Николай Васильевич, «необыкновенного
огня глаза».
На Сталине
не халат, как на ростовщике, а мундир. Впрочем, этот мундир стоит
любого халата.
Только
люди, привыкшие к солнцу, могут не ослепнуть от такого количества
орденов.
Не очень захочешь
оставаться наедине с таким полотном. Впрочем, вдвоем или втроем еще
опаснее. Вдруг кто-то заразится настороженностью и сообщит куда
следует.
И все же эту работу он не
уничтожил. Так и прожил несколько десятилетий со скелетом в шкафу.
Как видно,
чувствовал, что когда придут с обыском, его уже ничто не спасет. Или
рассчитывал на мундир: ну кто при таких орденах и нашивках станет
приглядываться к выражению глаз?
Трудно
представить обыск в его квартире. И не потому, что не заслужил.
Все-таки несколько лет состоял в должности придворного живописца.
Так отчего
бы не проверить? Не заглянуть в ящики письменного стола, не развязать
тесемки на папках, не перебрать бумагу за бумагой?
Легко
сказать, если не видел этих залежей. За долгие годы неумеренной
бережливости мастерская Эберлинга превратилась чуть ли не в склад.
Бывало,
уже примет решение расстаться, а потом все же заменит казнь на ссылку
в какой-нибудь отдаленный угол на антресолях.
Отрывные
календари и те хранил. Казалось бы, что ему 10 июля пятого года или 2
февраля семнадцатого, а у него всякий листок на своем месте.
Знаем,
знаем такого скрягу. Плюшкин тоже боялся что-то упустить. Этим своим
упорством привел имение в совершеннейший упадок.
Альфред Рудольфович дорожил
не хлебными корками и свечными огрызками, а чем-то более
значительным.
К примеру,
его волновало то, что время уходит. Причем как-то обидно уходит,
отражаясь напоследок в случайных деталях.
Так что
интерес к календарям принципиальный. В этих небольших книжицах
прошлое существовало не во фрагментах, а как бы целиком.
Еще ему нравилось
отсутствие предпочтений. Хоть и отмечены праздничные числа, но
отношение к ним никак не выражено.
Он и сам
старался сохранять спокойствие. Пометки делал совершенно нейтральные.
Что-нибудь вроде: «Рисовал Государя» или «Сеанс
Л.М. Кагановича».
Вот бы
удивились обыскивающие! Возможно даже стали сличать почерк: ошибки
нет, буквы «м», «у» и «к» также
ветвятся, как много лет назад.
Есть еще
вырезки из журналов и газет. Заприметит Альфред Рудольфович что-то
для себя интересное и сразу берется за ножницы. За несколько
десятилетий настриг целые бумажные горы.
Тоже
вырежет, а ничего не объяснит. Это уже мы должны разбираться, чем он
руководствовался в том или ином случае.
Был, к
примеру, такой Семирадский. Так вот давно хотелось спросить: как ему
работается на Капри? скоро ли ожидает расцвета современного
искусства?
Как
уверяет «Петроградский листок», живет - не тужит. Едва
займется утро, уже за работой. Что касается расцвета, то почему бы и
нет. Пусть не сейчас, но когда-нибудь позже.
Кстати, был Семирадский,
как и Эберлинг, из Варшавы. И тоже большую часть года проводил в
Италии.
Так что любопытство вполне
понятное. Так и Семирадский мог бы поинтересоваться: а как там
Альфред?
А это уже
напрямую о Польше. Безо всяких там посредников вроде достопочтимого
Хенрика Ипполитовича.
Когда
началась первая мировая, то его в основном интересовали сообщения с
польского фронта.
Десятки
этих вырезок, но одна особенная. Когда вырезал, ножницы немного
подрагивали.
«Варшава,
13 ноября. Здесь получено сообщение, что Згежь совершенно сгорел. В
последнем бою нашим отрядом захвачен большой германский обоз и 600
солдат. Среди пленных оказалось 90 женщин».
Альфред
Рудольфович родился в Здеже. Буквально назубок знает все улочки и
дворы. И сейчас иногда во сне по этому городу прогуливается.
Не первый раз ему
приходится прощаться, а всякий раз больно. Потом как-то привыкаешь.
Вырезал заметку, мысленно вычеркнул эти годы из памяти, и живешь
дальше.
Для чего
Президент Академии художеств Бродский так сказал? Мог бы
воспользоваться своим положением и хотя бы промолчать.
Так нет
же, все усугубил сам. Его спросили о любимом жанре, а он ответил,
что «работает в области вождя».
А ведь когда-то начинал с
пейзажей и всем областям предпочитал княжество финляндское с его
соснами и валунами.
Игорь
Эммануилович Грабарь никогда не позволит себе подобной
категоричности. Если и упомянет официальные портреты, то отметит, что
его любимые сумерки тоже не оставлены без внимания.
Этот
человек всегда соразмерял речь и дыхание. Произнесет что-то, наберет
в легкие воздуха, и только тогда продолжает.
И начиная
свое послание Эберлингу, Грабарь как бы вздохнул. Посетовал на то,
что они не виделись столько лет.
Казалось
бы, достаточно произнести пароль «Академия художеств», и
дальше можно не волноваться.
Легко
сказать, но что-то мешает. Хоть и не чужд литературному творчеству, а
в первой фразе дважды повторил одно слово.
«Пишу
Вам, вспоминая наши старые дружеские отношения времен старой Академии
Художеств…»
В этом-то слове все дело.
Оттого и грустишь, что больше не будет того, чего прежде было в
избытке.
Это пока
молоды не существует различий. Просто художники, ученики одного
мастера. Практически каждый гений. Пусть не гений, а талант.
А еще
мольберты в классе стоят рядом. И на натуру едут вместе. Сядут с
альбомами на большом расстоянии, а потом бегут сравнить результат.
Обо всем этом Игорь
Эммануилович напомнил своему однокурснику. Не стал растекаться,
обозначил приятную для обоих перспективу, и перешел к главному.
«Состоя консультантом
по художественным вопросам при ГОСЗАКе я, во исполнение поручения
управляющего тов. Енукидзе, дал в свое время мотивированный отзыв о
всех портретах Карла Маркса, представленных в ГОЗНАК, выделив Ваш,
как совершенно исключительный и единственно приемлемый. Одновременно
я нашел необходимым сделать несколько незначительных замечаний,
касающихся различных деталей, и в том числе высказал пожелание о
внесении некоторого оживления в пряди волос слева и главным образом
справа от зрителя, с целью уничтожения досадного впечатления войлока,
производимого особенно последнею».
И первое предложение без
особых подробностей, если не считать дважды повторенного слова. А уже
потом голос обрел ровное течение. Бу-бу, бу-бу. Лишь в заключающем
письмо заверении в преданности слышится что-то неформальное.
Может
Грабарь и хотел бы пуститься в воспоминания, но сам себя остановил.
Слишком о многом ему пришлось бы сказать.
Кто такой
Альфред Рудольфович? До просто художник. А Игорь Эммануилович -
человек ученый, академик Академии наук СССР.
То есть и
художник, конечно, но одновременно со всеми прочими многочисленными
обязанностями.
Эберлинг
закончил картину – и свободен, а Грабарь еще заседает в разного
рода комиссиях и комитетах.
От всех этих комиссий у
него тяга к сопутствующим соображениям. Только произнесет «а»,
непременно добавляет «б».
Правда, и
жизнь у него такая, что ни на один вопрос не ответишь однозначно.
Всякий раз
пускаешься в комментарии. И спросившего запутаешь, и запутаешься сам.
Так нет же, не отстанут. Ну
если только на время, а потом опять полюбопытствуют.
Почему
учился в Мюнхене? Зачем участвовал в дягилевской выставке?
Уже
сколько раз приходилось давать объяснения, а все недостаточно.
Вот и
лезешь из кожи, демонстрируешь склонность к противопоставлению одной
и другой стороны.
Да и в
качестве эксперта Игорь Эммануилович всегда позаботится о том, чтобы
было это и то.
Хоть и нет
оснований для консенсуса, все равно сведет концы с концами.
Именно так
он разбирал портрет Маркса работы Альфреда Рудольфовича. Старался
уравновесить свои претензии указанием достоинств.
Например,
уши с одной стороны не получились, а с другой вышли на славу. Тоже
касается и растительности. Борода и усы написаны как надо, а шевелюра
производит «впечатление плотной массы».
Сказал о недостатках и
сразу заверил, что понимает причину неудачи. Как бы вошел в
положение. Выразил готовность растолковать то, что ему следовало
понимать самому.
«…
Вы сознательно трактовали волосы несколько иначе, дабы придать всему
портрету известную монументальность, но все же полагаю, что при
свойственном Вам художественном такте и чувстве меры, Вы легко
найдете способ трактовки и фактуру, которая одновременно не измельчит
дробными штришками монументальности, сохранив в то же время нечто от
чисто материальной стороны того, что называется «пышностью
волос…»
Вроде вопрос эстетический,
а не только. Следовательно, и на этот раз дело в том, как посмотреть.
Вот, к
примеру, та же «пышность волос». Художественная оценка
тут имеет место, но и политическая не исключена.
Речь уже
не столько о портрете, сколько о герое. О том, кто у него родители,
какую фамилию тот носил до того, как принял псевдоним.
Хорошо не
потребовал, чтобы волосы курчавились. Правда, тогда это был бы
Троцкий, а не Маркс.
Легко
судить о других, а Вы попробуйте свои требования применить к себе.
Так и
начните: с одной стороны, а затем с другой. Тут-то Вам и откроется
нечто такое, без чего можно обойтись.
Другой бы
переживал по этому поводу, но Грабарь просто считал, что всему свое
время.
Иногда на одном холсте
соединит имеющее отношение к президиуму, и связанное с огромным миром
за окном.
Вот, к
примеру, картина «Ленин на прямом проводе».
В глубине комнаты вождь
остановился в знакомой каждому позе напряженного внимания, а на
развернутой карте на переднем плане стынет чай.
Сколько
раз Игорь Эммануилович брался за такие сюжеты! Нет, он и Ленина
изображал не раз, но куда чаще ему доводилось рисовать стаканы с
подстаканниками.
Светится
из глубины темноватая жидкость, серебряная ложечка чуть ли не звенит
в этом тумане, в окно лезет какая-то хмарь…
Художник
не скрывает предпочтений. Больше всего в компании людей, вещей и
явлений его занимают стакан и диван с гнутыми ручками.
Диваны и прежде встречались
на его холстах. Просторные, поблескивающие черной кожей. Бывают,
знаете ли, такие диваны на века: сменяются эпохи, а они стоят на том
же месте, что сто лет назад.
Садишься и
проваливаешься. Не совсем проваливаешься, но ровно настолько, чтобы
перестать ощущать свое тело.
По этому
поводу Эберлинг мог обменяться с Грабарем понимающими улыбками.
Так я
пытаюсь обойти обстоятельства. И я тоже действую так.
И, на
самом деле, различие незначительное. Правда, Альфреда Рудольфовича
вдохновляли не диваны, а виды неаполитанского залива.
Непременно
изобразит и Ленина с Горьким, и залив. Расположились наши
буревестники на берегу, а за их спинами светится голубая даль.
Ленина и
Горького он писал близко к фотографиям, а залив по воспоминаниям.
Валуны на его полотне были именно те, на которых он не раз сидел
после купанья.
Чувствуете
тенденцию? Все рисуют соревнования и парады, а у Грабаря с Эберлингом
свой интерес. Им бы диванчик, на худой конец камень у моря, и чтобы
при этом никуда не спешить.
Думаете,
возраст? Не без того. Даже в такой монументальной картине как
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» смог сказал о том,
что его волнует.
Во-первых,
вчитался в формулировку. Увидел, что «соединяйтесь» -
глагол несовершенного времени. Значит, пролетарии только грозятся
стать настоящей силой.
Его герои
идут к цели. Одни движутся бодро, другие с ленцой. Не то чтобы
сомневаются, а просто не считают нужным пороть горячку.
Пусть они
придут в будущее последними, но хотя бы обойдутся без нервных
перегрузок.
Эберлинг
еще бы скамеечки поставил на дороге, если бы не опасался упреков в
формализме.
А какие же
скамеечки формализм? Самая что ни на есть первейшая необходимость.
Может, молодым ни к чему, а кто постарше непременно воспользуется.
Когда
художник рисовал Ленина с Горьким, то имел ввиду их последующее
восхождение. Сейчас вдохнут морской воздух, успокоят дыхание, и
отправятся по своим революционным надобностям.
Знание и
печаль взаимосвязаны. Вечная книга выводит что-то вроде уравнения на
сей счет.
Для
кого-то горести начались с революции, а для Игоря Эммануиловича с
погрома на складе издательства Кнебеля.
В этом погроме погиб один
том его «Истории русского искусства».
Год был не революционный,
семнадцатый, а вполне, казалось бы, спокойный, пятнадцатый.
Правда,
перспектива просматривалась. Когда увидел разбитые негативы, то сразу
понял, что дальше все так и пойдет.
Разумеется,
«Старые годы» и лично главный редактор выразили свои
соболезнования.
Вейнер
скорбел по поводу безвозвратно утерянной книги, но Кнебеля ему было
жалко не меньше.
Как
издатель и домовладелец он знал, сколько усилий требуется для того,
чтобы держать такое хозяйство.
Завершался
текст неположенными в этом жанре вопросами.
«Вообще неизвестно, -
сетовал редактор, - захочет ли Грабарь вновь затратить столько
усилий, энергии, времени и средств, чтобы воскресить погибшее,
восстановить порванные нити, повторить уже законченные изыскания».
Это уже о
том, что произойдет потом. Еще и тем страшно это событие, что не
каждый сможет его пережить.
К тому же,
есть люди вроде Грабаря. К былому они относятся трепетно, но легко
входят в новую ситуацию и всегда отдают ей предпочтение.
Надписывая
адрес на письме Эберлингу, Игорь Эммануилович скорее всего вспоминал
обеды у Вейнера.
Ну как же,
как же! Красные куропатки! Консоме селери!
Случалось
и Альфред Рудольфович сидел за этим столом по праву соседа и
однокурсника одного их гостей.
В это
время арифметика стала общим увлечением. Чуть ли не наукой наук.
Только и слышалось: пять в четыре, электрификация плюс Советская
власть …
Игорь Эммануилович и раньше
все старался планировать, но тут он планировал еще и с разбивкой на
пятилетки.
К примеру,
такой его совет коллеге. Заработайте денег лет на пять, а потом еще
пять трудитесь для себя.
Куда хуже, когда художник
не сам выполнит арифметическую задачу, а это сделают за него.
Уж,
конечно, не прибавят, а вычтут. Может и не совсем, но в Ленинграде и
Москве точно запретят жить.
Это действие так и
называлось «минус». Больше всего пострадали от него
граждане с подозрительными нерусскими фамилиями.
К концу
сороковых годов из всего немалого немецкого представительства в доме
на Сергиевской оставался один-единственный жилец.
Можно было
смело звать понятых и со всей силой жать на звонок.
Альфред
Рудольфович? Эберлинг? Именно в этом обвиняет Вас государство рабочих
и крестьян.
А уж
дальше сценарий известен. Сажают в вагон, везут к черту на куличики,
выбрасывают в поле.
Осваивай
это пространство, начинай жизнь сначала.
Слава Богу, обошлось. Но
прежде пришлось понервничать. Порой из дома не выйдет, чтобы лишний
раз не мозолить глаза.
Говорил
себе: не расслабляйся! Ну что из того, что наконец-то почувствовал
контакт с властью, заговорил с ней на одном языке.
Все как в
известной сказке. Там, где только что стояла милая девочка в красной
шапочке, сейчас вращал глазами серый волк.
В сеансе
разоблачения участвовал Грабарь. На то он и эксперт, чтобы по любому
поводу иметь свое мнение.
Если мог
что-то сказать о плотности волос вождя, то почему бы не высказаться о
труднопроизносимой фамилии художника?
Альфреду
Рудольфовичу следовало предупредить распространение слуха. К тому же,
просто захотелось выяснить, как это он дошел до жизни такой.
«Уважаемый
Игорь Эммануилович. – писал Эберлинг, - Мне очень прискорбно
думать, что Вы, один из тех немногих ближайших товарищей по Академии,
не так доброжелательно ко мне относитесь, как это всегда мне
казалось. До меня дошли сообщения, что Вы утверждали, будто бы я был
сослан во время войны за немецкое происхождение. Да будет Вам
известно: никогда я не был немцем, - родился в Польше, учился в
Варшавской школе, и меня все знали как поляка. С переездом в
Петербург кто меня знал в продолжении шестидесяти лет работая по
искусству может сказать, что я всегда, во все моменты жизни вел себя,
как всякий честный русский. Никогда меня никто не высылал, а в 1942
году я добровольно дистрофиком уехал в эвакуацию, а в 1944 г. по
вызову Ленизо вернулся».
Вообще-то сомнения вполне
понятны. И уж, конечно, не одному Грабарю они приходили в голову.
Ведь
имя-отчество и фамилия совсем не польские. А то, что родился и жил в
Польше, ничего не доказывает. Мало что ли в Варшаве рождается немцев.
И после
объяснений Альфреда Рудольфовича ясности не прибавилось.
Как
понимать «никогда не был…» и «всегда
считался…»? Очень уж расплывчато сказано. Все же одно
дело казаться немцем или поляком, а другое быть тем или другим.
Начал со
слов: «… я так обрусел, что кто знал…», а
потом зачеркнул.
Ну что из
того, что «обрусел»? Вот если бы можно было подтвердить
эту метаморфозу, но это только личная точка зрения.
Когда речь шла о
профессорском звании Эберлинг понимал, что тут дело в бумаге, а в
данном случае довольствовался ощущениями.
Взрослый
человек, а все ему что-то кажется. То чувствует себя поляком вопреки
очевидности, то считает Грабаря одним «из немногих ближайших
товарищей по Академии».
Уж кто-то,
а Игорь Эммануилович все эти сложности изучил. Сам, можно сказать,
претерпел по причине неясной национальности и места рождения.
В иные
годы об этом не думаешь, а потом припрет. Бросишься на поиски
документов, станешь приглядываться к отчествам предков.
Иногда
такие бывают «квадратуры круга», что голову сломаешь, а
ответа не найдешь.
Игорь
Эммануилович родился в Будапеште. Значит он, как и Кнебель, был
австрийским подданным. При этом какие они немцы? У одного хотя бы
есть немецкая кровь, а другой так просто еврей.
Следовательно,
в пятнадцатом году ошибочка вышла. Совсем ни при чем этот склад. Ведь
погром предполагался германский, а не еврейский.
Вот бы Игорю Эммануиловичу
быть «ответственным редактором», так угораздило стать
персонажем. Во всех анкетах следовало называть если не деда Адольфа
Ивановича и бабушку Элеонору Осиповну, то место рождения.
Не сразу
стала очевидна опасность. Это сейчас в его мемуарах заметен перекос.
Мало того, что он проговорился о связях с дедом и бабкой, но еще и
рассказал об учебе в Германии.
Тут уже не
просто перекос, а тенденция. Все художники в эти годы стремились
учиться в Париже, а он предпочел мюнхенскую школу Антона Ашбе.
Так как же
ему не тыкать в товарища пальцем, не торопиться выкрикнуть: я свой,
меня не вышлешь так запросто, я жил и буду жить только в Москве.
В мемуарах
тоже всего не расскажешь. Если только не справишься с волнением и
выйдешь за положенные рамки.
В
последней главе Грабарь решил подвести некоторые итоги.
Многотомная
«История русского искусства». Это раз. Реформирование
Третьяковки. Два. И, конечно, портреты и пейзажи. За пару десятилетий
их написано столько, что хватит на десяток выставок.
И все же,
главное, остался в профессии. Не покинул Москву в принудительном
порядке и занимается любимым делом.
Игорь
Эммануилович так и написал: потому считаю себя «исключительным
счастливцем», что революция не заставила «переключиться
на иную работу…»
Словом, выдал себя. Сказал
то, о чем другой позволит себе только думать.
Кое-кто,
правда, ничуть не смущался. Тот же Эберлинг никогда не берется за
кисть, прежде чем дадут отмашку.
Вот
бы Гоголь так спрашивал: «Есть у один меня забавный сюжетец.
Обещаю написать нечто общественно полезное». А император ему:
«Валяйте, Николай Васильевич. Только Акакия Акакиевича Вы тово.
Не очень напирайте на проснувшееся в нем после смерти чувство мести».
Иная фраза
говорит лишь то, что хотелось сказать автору, но за словами Грабаря
угадываешь кое что еще.
Постоянно
преследующий его сон смотришь вместе с ним. Уж как, казалось бы, это
возможно, а все представляется отчетливо.
Сперва
Игорь Эммануилович видел себя за письменным столом. То есть он как бы
сидел за столом и, в то же время, сам за собой наблюдал.
Углубился
в свои бумаги, обложился книгами и выписками.
Напишет и
перечеркнет. Замрет над страницей, а потом строчит без устали.
Тут-то ему
и говорят: «Встать! Не слишком ли Вы увлеклись своими
рукописями? Не пора ли сменить сидячий образ жизни?»
В этот
момент он неизменно просыпался. В щелочку еще не открывшихся глаз
оглядывал кабинет.
Радовался
тому, что все на месте. На столе – незаконченная статья, на
мольберте - начатый холст. Смирно так ожидают автора, который сейчас
приступит к работе и все сделает как полагается.
И в выборе
сюжетов Грабаря не ограничили. Потянет на вечные темы –
примешься за «Крестьян у Ленина», а захочешь поработать
над сиюминутным – пишешь «Февральскую лазурь».
А иногда,
как мы уже видели, соединит одно с другим. Найдет компромисс между
революционным содержанием и традиционной формой подстаканника.
Да и в
жизни при первой возможности ищет противовес. Никогда не загонит
вглубь обиду, но непременно отыграется на коллеге.
Выстрелит
быстрым взглядом поверх круглых очков, а потом спросит:
- Что за
шевелюру Вы изобразили? Это же сено или мочало!
Вообще не советует
держаться найденной формы. Переписали раз, перепишите еще. Вдруг
количество перейдет в качество и Вы, наконец, станете художником.
Только
себе разрешал быть консервативным. Имел в этом смысле твердые
привязанности. Те же очки как начал носить до революции, так и не
снимал много десятилетий.
Если его
собственное происхождение оставалось в тумане, то на сей раз все
обстояло просто. Он даже помнил адрес магазина в Мюнхене, где
пленился необычной оправой и отменной оптикой.
Не только
у Грабаря были предшественники, вроде уже упомянутых бабушки и
дедушки, но у принадлежащих ему вещей.
А
вдруг у его очков тоже имелись бабушка с дедушкой? Если это так, то
их наверняка звали как-то похоже.
Ну не
Адольф Иванович и Элеонора Осиповна, так Фридрих Карлович и Амалия
Францевна.
Днем они
восседали на жирных бюргерских носах, а на ночь укладывались в мягкие
футляры.
По разному
сложились биографии родственников. Фридрих и Амалия никогда не видели
ни одной настоящей картины, а их внучок отсвечивал на всех
европейских вернисажах.
Так что не
зря Грабарь носил очки столько лет. Все же не какие-то простые, а с
биографией. Тоже на свет появились в одном месте, а потом сразу
оказались в другом.
Кстати,
феска у Альфреда Рудольфовича столь же примечательная. Ничуть не
менее иностранная, чем окуляры однокурсника.
Как-то по
случаю Эберлинг купил ее во Флоренции. Уж очень приглянулась ему
лавочка. Еще так подумал: а не здесь ли маэстро Мазаччо заказывал
себе плащи и камзолы?
Почему
Эберлинг всегда в хорошем настроении? Потому что все продается. Хоть
иногда и случаются неприятности, но он редко остается в накладе.
Вот почему
Альфред Рудольфович так воспринял блокаду. В сравнении с новыми
обстоятельствами даже революция казалась менее радикальной. Все же
тогда жизнь теплилась, а тут, кажется, прекратилась совсем.
И пейзаж
блокады пустынный. Был мир разнообразный, а стал буквально в две
краски. При этом днем преобладает черная, а белая неуверенно
пробивается.
Это и есть
блокадный паек живописца. Минимум хлеба, почти полное отсутствие
желтого и зеленого. Не только холодно и голодно, но еще не на чем
остановить взгляд.
Больше
всего блокада похожа на сон. Сжимаешься в ужасе, но где-то в глубине
надеешься на то, что вскоре протрешь глаза.
- Знаете, - скажешь, -
сегодня видел страшный сон. Словно все стали настолько одинаковыми,
что не отличить мужчину от женщины, ребенка от старика…
Ждешь, когда проснешься, а
сон длится. Будто уже не существует настоящей реальности, а есть
только сочиненная и фантастическая.
И люди в самом деле на одно
лицо. Спрятались в платки и тряпки, только глаза выглядывают. Не
верится, что в прежней жизни у каждого из них имелось имя и фамилия.
Трудно в
одиночку бороться с этой почти что нирваной, но Альфред Рудольфович
попробовал.
Свои
картины Эберлинг показывал спокойно и деловито, а библиотеку с
энтузиазмом.
Есть
книги, которые олицетворяют самою книгу. Листаешь и чувствуешь
причастность к чему-то важному и значительному.
Еще раз с
радостью прикоснется к кожаной поверхности. Буквально рукой
почувствует: «Триодь постная», 1561 год, Венеция или
«Устав морской», Санкт-Петербург, 1720 год.
Эти
издания он решил продавать. Следовало только стащить их с верхнего
этажа и разложить на мостовой.
Совсем невмоготу было идти,
а как вспомнит, для чего это предпринял, так сразу появляются силы.
Даже
попытался заманить покупателей. Плетутся двое на другой стороне
улицы, а он с этой им машет рукой.
Правая
рука поболталась в воздухе, а потом бессильно опустилась. Получилось
не «Идите сюда», а «Тону».
И, действительно, тонул.
Чувствовал, что другого шанса не будет.
Блокадный
человек не может позволить себе любопытство, но все же несколько
человек подошли.
Ах, книги?
Кому нужны книги? Если бы не таких размеров, то сгодились бы в печь.
Холод и
голод поразили Альфреда Рудольфовича меньше, чем это безразличие.
Вечером
Эберлинг пополз в мастерскую, а свой товар оставил на мостовой.
Когда
через несколько дней вышел на улицу, то над его богатством высился
могильный холм из чистого снега.
Пришла пора сказать, что у Альфреда Рудольфовича был сын Лев. Мы о нем не
забыли, но просто он к этому времени почти не занимал места в его жизни.
После развода с первой женой отношения еще сохранялись, а потом и
окончательно заглохли.
Эберлинг
не знал, что сына не взяли в армию из-за немецкой фамилии и оставили
умирать в Ленинграде.
Первые
блокадные месяцы Лев находился всего в нескольких сотнях метров от
Сергиевской.
Что значит
«всего»? Когда человек с трудом ходит по комнате, то для
него это как другой конец света.
Оба изголодали и исхудали
до последней степени. Уже думали, не выживут. Так одновременно
думали, словно между ними еще существовала связь.
Альфред
Рудольфович действительно несколько раз умирал, но все же смог
удержаться на этой тонкой грани, а его сын умер окончательно и
бесповоротно.
Так все
время. Достигаешь края отчаяния и медленно отползаешь. Каждый вновь
завоеванный сантиметр считаешь удачей.
Постепенно понимаешь, что
не только жив, но можешь держать в руке карандаш. Начинаешь с
опаской, а потом появляется уверенность.
Кого за
это благодарить? Ну, конечно, заказчиков. Уже совсем перестал
надеяться, как опять пошли предложения.
Что за
чертово племя эти заказчики! Понимают, что живут в аду, но хотят быть
запечатленными его доброжелательной кистью.
Такой
неожиданный поворот. Были неотменяемые каждодневные обязанности,
вроде тушения зажигалок или плетения сетей для маскировки, как его
опять призвали к мольберту.
И гонорар
положили царский. В общей сложности десять килограммов хлеба, по два
за каждый портрет.
А где
гонорар, там и соответствующий настрой.
Опять
размешиваешь краски, грунтуешь холст, делаешь первые наметки…
Получаешь удовольствие оттого, что персонаж еще сидит напротив, но
очень скоро это место покинет и целиком переместится на холст.
Везение
так везение. Не какой-то там дополнительный паек, а новая жизнь со
всеми вытекающими последствиями.
Эберлинг
уже не очень удивлялся. Еще пару месяцев назад ни за что бы не
поверил, а сейчас принял как должное.
В конце
июня 1942 года вместе с женой он покинул блокированный Ленинград и
около месяца добирался на Алтай.
Жизнь и в
эвакуации непростая. Хоть не столь безнадежная, как в родном городе,
но тоже требующая постоянных усилий.
Во время
блокады у него оставалась собственная мастерская, а тут их поселили в
тесной комнатушке.
А еще на кухне за стеной
живет семья. Три человека и теленок.
Родители с мальчиком тоже
не тихие, а теленок просто беспокойный. Все время нервничает,
просится на травку, хотя на дворе холод и зима.
Странный
дом. Не дом, а корабль. Движется в пустоте ночи, полный вскриков,
взвизгов и стонов.
К утру
доберется, встанет на мель. Откроешь глаза и первые минуты слушаешь
тишину.
Прежде такую тишину он
только видел на полотнах мастеров Возрождения. Тут дело не в том, что
тихо, а в том, что никакие слова не нужны.
Поглядишь в окно: красота!
Уж действительно не пожалели зеленого и желтого! А синего плеснули
столько, что, кажется, хватило бы на целое море.
Взгляд
ищет, на чем ему остановиться. Так и движется в бесконечность. От
молодых еще холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
Каждый день видишь, а все
не привыкнуть. Сколько раз брался рисовать, а однажды заговорил
стихами. Скорее всего, и не помнил фамилии Мандельштама, но
неожиданно с ним совпал.
«Не
разнообразием и красотой горных мотивов, - написал Эберлинг ученику,
- напоминающих предгорье Тосканы, в частности, окрестности Флоренции,
поражает алтайская природа, а необычными смелыми цветовыми и
световыми эффектами, чарующими глаз, в особенности при восходе и
закате солнца».
Что же это получается? В
Ленинграде ничто не напоминало ему об Италии, а тут эта связь
чувствовалась.
Верно
сказал поэт: «молодых холмов». Отсюда, из самого начала
мира, явно ближе до его вершины.
Только
решил так, а потом сам себя опроверг. И не потому что передумал, а
просто перестраховался.
Зачем, в
самом деле, ему Тоскана? Лучше даже подчеркнуть, что у него нет с нею
ничего общего.
Поспешишь
и запутаешься. Ведь «смелые цветовые эффекты» - и есть
«разнообразие и красота горных мотивов».
Когда
Альфреда Рудольфовича
просили заменить шевелюру или перенаправить взгляд, он брал кисть и
все делал как требуется. Всякий раз понимал, что портит картину, но
все же резал по живому.
Оказывается,
не только с человеком на портрете, но и с ним самим могут поступить
так.
Помните:
«Глаза осветить как на фотографии N 1. Фон и низ должны быть
растушеваны на-нет»? В таком тоне ему сообщили, что придется
ампутировать ногу.
У
нарисованных персонажей нет права голоса, но он пытался
сопротивляться. На операционном столе отстаивал свою целостность и
ругался как извозчик.
А еще маэстринька! Вот если
бы такое позволил себе студиец, а тут все же бывший придворный
художник.
После
операции неожиданно успокоился. Уж такой это человек. Любую потерю он
в конце концов принимает как должное.
И не то
чтобы смирился. Случалось и проснется, и ворочается до самого утра.
Зато потом
занятия в студии ведет как ни в чем не бывало. Всячески
демонстрирует, что еще ого-го. На трех ногах передвигается
стремительней, чем на двух.
Вот его
рецепт от житейских неурядиц. Предположим, есть кто-то, с кем Вы
конфликтуете. Не тратьте силы на выяснение отношений, а переведите
проблему в эстетическую плоскость.
Альфред
Рудольфович и переводит. Сталин или Троцкий на его полотнах выглядят
так, словно они занимаются разведением цветов.
И врачиху,
делавшую ему ампутацию, он изобразил как бы на отдыхе в санатории.
Веселое
такое платьице, настроение преотличное, игривость во взгляде…
Сразу видно, что только с ужина, а теперь собирается на танцы.
Скольким
заказчикам Эберлинг смог помочь! Одних избавил от родинки, других от
рябин или горба. То есть не совсем избавил, а лишь показал, как они
будут выглядеть без них.
Смотрят заказчики на свое
изображение: и действительно не в горбе дело! И родинка не имеет
значения при такой шее и спине!
Мысленно
благодарят его за то, что разглядел главное. Фотограф застрял бы на
частностях, а художник смог от них отрешиться.
Эберлинг и
себе пытался так помочь. Был, к примеру, некто персонажем его жизни,
а стал просто персонажем. Как бы перешел границу, отделяющую «мечту»
от «существенности», и остался в пространстве красоты.
Надо сказать, не всегда это
удавалось так просто. Вот с докторшей получилось, а с сыном нет.
Невестка
не раз просила его нарисовать портрет Льва. Кому еще взяться за эту
работу как не родному отцу.
Да и есть
ли еще художник, который смог бы это сделать не по фотографии, а по
велению чувства.
Чтобы Лев
как живой улыбался со стены. Наблюдал из своего красного угла в
столовой за тем, как живет его семья.
Почему-то
у Альфреда Рудольфович ничего не выходило. Сколько раз он становился
к мольберту, столько и откладывал.
Только и
понял из всех своих попыток, что они действительно родные люди.
Словно это не портрет, а автопортрет. За какую черточку ни берешься,
всякий раз обнаруживаешь сходство.
Когда дошел до глаз, то
просто застопорился. Буквально по часу просиживал над каждой линией.
Уже почти не работал, а больше вспоминал.
Левушка в
коляске. Левушка на руках у матери. Левушка делает первые шаги.
А глаза
при этом как у взрослого, словно уже знает что-то главное о своей
судьбе.
Так и не
закончил портрета. Может, впервые не выполнил заказ. Уж как невестка
на этом настаивала, а он себя не преодолел.
Альфред
Рудольфович кричал, что отказывается. И вообще, знает ли она, что
такое рисовать умершего сына? То есть как бы сотворить его заново,
после того, как тот прожил свою жизнь до конца.
В
послевоенные годы в голове Эберлинга заклубились самые невообразимые
мечты.
А что еще
ему оставалось? Сидишь в кресле, воображаешь мост через реку или
дом с бельведером, и за этим занятием успокаиваешься.
Мост или
дом – это уже кое-что, но персональная пенсия занимала его куда
больше.
Он просто таял от мысли,
что кто-то не гоняется за каждой сотенной, а открывает дверь
почтальону и расписывается в специальной графе.
Получите, уважаемый
художник, причитающуюся сумму. Пересчитайте и спокойно дышите в
ожидании следующей порции.
Надо
сказать, что эти оптимистические видения были не совсем
беспочвенными.
Все-таки в
сорок седьмом году ему повезло. И в сорок девятом он получил
кое-какие подтверждения того, что все не так плохо.
Через два
года после окончания войны прошел обмен денежных знаков, но его Ленин
сохранил свое место с правой стороны купюры.
Только
поворот корпуса был немного другой. На купюре тридцать седьмого
Владимир Ильич смотрел вполоборота, а в сорок девятом резко
развернулся на зрителя.
Получилось
что-то вроде мультика. Кадр и еще кадр. Сперва вождь как бы
изготовился, а потом резко менял положение.
И все же
столь прямое отношение к деньгам не решало финансовых проблем.
Приятно, конечно, но все же не заменяет пенсии.
Тут
и пришла вторая удача, причем с самой неожиданной
стороны.
Эберлинг
уже давно не связывал никаких надежд со своим прошлым, как вдруг руку
помощи протянула Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Вот вам мост, дом с
бельведером, да еще и личное расположение первого человека страны.
Существует
фотография, на которой снят их выпускной класс. В центре Илья
Ефимович, а по обе стороны от него они все.
Есть
что-то общее между фотографированием и появлением на том свете.
Кто-то замешкается и войдет в будущее с растрепанными волосами и
глупой улыбкой.
На сей раз
вроде подготовились. Поняли, что минута особенная. Вряд ли они
соберутся еще в столь внушительном составе.
Представляешь
фотографа, который махнул рукой, а они от этого жеста сразу
подобрались. Каждый выбрал точку вдалеке и стал внимательно ее
изучать.
Что там
впереди? Угадывается что-то, но, конечно, главным для них станет
другое.
Все-таки
очень ранний год. Еще не вообразить войну и революцию, а славу и
деньги представляешь ясно.
Только
Репин ощущает себя уверенно. Словно он вошел не в кадр, а в дверь
мастерской. Легко утвердился в центре композиции, будто занял свое
место за общим столом.
И действительно, с чего бы
ему волноваться? Все-таки не начало, а самая середина творческого
пути.
Даже
будущее не страшит Илью Ефимовича. Знает, хитрец, что когда случится
непоправимое, то его это вряд ли коснется.
Был мастер
их курса немного Лукой. Маленький такой, седенький, всегда в каком-то
нескладном костюмчике.
А глазки
прищуренные и зоркие. Если бы Вам такой взгляд, то Вы бы наверняка
создали «Крестный ход» или «Заседание
Государственного совета».
Многие на
фото узнаются сразу. Вот – Грабарь, а это –
Остроумова-Лебедева и Эберлинг. Значит, и через столько лет они не до
конца переменились.
Потеряно
за эти годы тоже немало. Уж очень быстро недавние единомышленники
стали хорошими знакомыми.
Слава
Богу, не у всех короткая память. С Грабарем Альфред Рудольфович
перешел «на Вы», а Остроумову по прежнему числил в
друзьях.
Правда,
темы сейчас другие. Раньше больше беседовали об искусстве, а сейчас
исключительно о здоровье.
Всякий год
пожилому человеку прибавляет болячек. Так что тем хватает. К тому же,
говорят не только о новых лекарствах, но обсуждают знакомых врачей.
Обычные
такие телефонные беседы на сон грядущий. У нее - свои недомогания, у
него – свои. Всякий раз удивляются, что при таких хворобах
каждый день за работой.
Еще
Эберлинг сетует на то, что с некоторыми их сверстниками государство
давно расплачивается, а до него очередь не дошла.
Как бы ему жить не в
зависимости от важности темы и сантиметров холста, а только потому,
что он существует на свете и не думает этого занятия бросать.
Пугачев
отблагодарил. И Анна Петровна тоже решила вернуть долг.
В 1899
году Эберлинг уезжал в Константинополь и позволил ей воспользоваться
своей мастерской.
Остроумова
ему не жаловалась, но он как-то почувствовал: совсем невмоготу ей
жить вместе с родителями.
Потом она
признавалась: уже собралась оставить занятия живописью, как вдруг
получила это предложение.
Конечно, срок давности
вышел. Все-таки случилось это почти пятьдесят лет назад.
Так что
она вполне могла поахать, а затем перейти к чему-то более важному.
Нет,
приняла ответственность на себя. Как только услышала о горестях
однокурсника, так сразу захотела вмешаться.
Вообще последнее время
старалась больше возвращать.
Просила
Берию выпустить из тюрьмы своего шофера. Написала ему подряд
несколько раз. Возможно, думала, что тот сомневается и хотела
ускорить решение 3
.
Неслучайно
свои письма Альфред Рудольфович начинал обращением: «Дорогой
товарищ» и «Добрый старый приятель».
Отчего предпочитал мужской
род? Кто понимает, знает ответ. Вот также говорят «художник»,
а не «художница», «поэт», а не «поэтесса».
История с
шофером, так и не вернувшимся из лагеря, подсказала ей, что Берия не
обладает всей полнотой власти.
Значит,
остается один Сталин. Некоторое время Остроумова колебалась, а потом
отважилась. Все же речь не о ее персональной выставке, а о судьбе
больного однокурсника.
«Глубокоуважаемый
и дорогой Иосиф Виссарионович, - писала Анна Петровна, - Обращаюсь к
Вам с большой просьбой, помочь моему старому товарищу, художнику
Альфреду Рудольфовичу Эберлингу…, с которым я вместе училась в
Академии художеств у нашего гениального художника Ильи Ефимовича
Репина и вместе окончили Академию.
В данное время А.Р.
Эберлингу - 78 лет; месяц тому назад вследствие болезни ему отняли
ногу. За ним числится 48 лет педагогического стажа, и многие из его
учеников окончили Академию и преподают в ней.
Кроме педагогической
работы, он не переставая творчески работал всю жизнь.
В 1918 г. он участвовал в
конкурсе на лучшую картину и получил первую премию, сейчас эта
картина находится в Музее Революции. Еще известнее его картина "Ленин
в 1896 г. в Петербурге".
Сейчас ему
назначена пенсия 300 р., которой далеко не достаточно для прожития
вдвоем с его престарелой женой.
Я очень прошу Вас, дорогой
Иосиф Виссарионович, не найдете ли Вы возможным назначить ему
персональную пенсию, которая бы его поддержала. Уверяю Вас что он ее
вполне заслуживает».
Что касается повода для
внимания, то тут все правильно. Почти прямо сказано о компенсации за
те одолжения, которые художник оказал новой власти.
А вот
некоторые формулировки смущают. Сразу представляешь, как адресат
читает это письмо и раздумчиво поглаживает ус.
Ну
можно ли «уверять» того, кто сам является источником
веры?
Еще более
неправильно просить его назначить пенсию, будто он всем распоряжается
единолично.
Что он
Людовик Четырнадцатый или Николай Второй? К тому же, и вопрос мелкий.
Уж эту-то проблему можно было решить без него.
Нет у Анны Петровны
привычки к подобным разговорам. А то бы она упомянула о том, что
половину жизни Эберлинг рисовал Сталина. То есть он рисовал и Ленина
с Троцким, но Сталина все же больше.
Так что
эта встреча при ее посредничестве неслучайна. Подведи она вождя к
этой мысли, ему бы обязательно что-то вспомнилось.
Однажды Иосиф Виссарионович
прямо интересовался художником. Было это после того, как он увидел
свой портрет в маршальской форме. Открыл «Огонек» на этой
странице и от удовольствия пыхнул трубкой.
- Кто этот Эберлинг? Почему
не знаю? А ведь не хуже Бродского или Грабаря.
Ну что поделаешь с Анной
Петровной? И это не учла, и другое. Человек замечательный, но в
дипломатии совсем несведущий.
И рисовала
Остроумова больше не с натуры, а по ощущению. Поэтому на ее гравюрах
изображен Петербург, а не тот город, что позднее возник на его месте.
Спутать
Ленинград с Петербургом еще допустимо по крайней мере в районе
Летнего сада, а вот это ошибка непростительная.
Тут не
только близорукость и старость, но еще примешались воспоминания.
Анна
Петровна привыкла, что Эберлинга окружают дамы их возраста. Примерно
с семидесятого-семьдесят четвертого года. Она и себя называла
«престарелой», и к супруге Альфреда Рудольфовича это
определение отнесла.
А кто они, как не
«престарелые»? Хорохорятся, отстаивают свои права, но
всегда наготове держат пузырек с валерьяной.
Обозналась
Остроумова. Спутала с кем-то Елену Александровну, а та, как мы знаем,
младше мужа на тридцать лет.
Едва
Эберлинг найдет выход из какого-нибудь безнадежного положения, а уже
новое препятствие.
Он
даже на видное место повесил охранную грамоту. Того, кто усомнится в
его намерениях, этот документ должен был привести в чувство.
Мол, не
подумайте дурного. Лишь потому решился проявить инициативу, что на то
имеется соизволение властей.
В
закорючке рядом с печатью студийцам мерещился росчерк самого Кирова.
Значит, не
такая казенная эта бумага. Можно даже расценить ее как письмо учителю
от его неизменного персонажа.
Насколько
это верно утверждать трудно, но текст на бланке выглядел убедительней
слогана на оконной занавеске.
Еще сделал окантовку.
Многие его полотна хранились без рам, но тут ему понадобилась
завершенность.
Впрочем,
разрешив студию, государство не отстранилось и время от времени
пыталось выяснить: как там заслуженный художник? не очень ли
отклоняется от утвержденных тем?
Вскоре
студийцы научились различать тихарей. Что-то им подсказывало: вот
тот действительно хочет учиться, а у этого другое на уме.
Сначала
появился матрос. Сразу было видно, что его тяготит обязанность
рисовать гипсы. И вообще он чувствует себя неуютно рядом с такой
малышней.
Другой
оказался просто дальтоник. Ребята все удивлялись, отчего учитель,
обычно такой требовательный, вдруг становится неожиданно либерален.
Это был
еще один его компромисс. Эберлинг и другие свои компромиссы переживал
трудно, а тут и совсем сник.
Все же к
своим заданиям он привык относиться серьезно. Едва не взрывался из-за
какой-нибудь плохо проработанной светотени.
При этом
выбор сюжета не имел значения. Будто существуют цветовое пятно как
таковое и линия сама по себе.
Когда-то
это называлось «искусство для искусства». Стремление к
чему-то изящному и высокому вне зависимости от повода и мотивов.
Из-за
матроса и дальтоника о принципах приходилось забыть. Уж какая тут
красота, если эти двое ничего в этом не понимают.
Неприятно?
Еще как! Ведь даже не передразнишь ученика в ответ на обычные
заверения, что завтра все будет сделано наилучшим образом:
- «Там
потом»… «там потом»… Все у Вас «там
потом» …
В конце
сороковых годов Эберлинга ждало новое испытание. Среди его
воспитанников появился некто Репин.
Помните
самозванного Пушкина на ленинградских улицах? В отличие от него Репин
был не совсем бескорыстен. Так же как Матрос и Дальтоник он ходил
сюда не для одного удовольствия, но в порядке исполнения службы.
Скорее
всего, это Органы так подшучивали. В юности за ним приглядывал один
Репин, а теперь другой. Тот был профессор, знаменитый художник, а
этот едва умел держать в руке карандаш.
Альфред Рудольфович опять
чувствовал себя неуютно. Вроде надо указать на недостатки, призвать
вспомнить заветы мастеров прошлого, а приходится говорить о другом.
Руководитель
студии встанет в позу, возьмет том Голсуорси, и потрясет книгой над
головой:
- Да,
читаю! Но читаю потому, что хочу знать противника в лицо.
Словом, напугали нашего
маэстриньку. Популярно объяснили, что незаменимых нет.
Сегодня, к
примеру, один Эберлинг, а завтра другой. Не то чтобы полное
тождество. Известно, какие за манеры у этого второго, но заказы
выполняет на раз.
Так что в
ГОЗНАКе особо не опечалятся. Главное, не оскудел поток усов и черной
шевелюры. И эполетов соответственно. По паре на шевелюру и усы.
Только
самые близкие будут горевать. Вновь собираться своим кругом и
вспоминать о том, как он целовал дамам ручки или напевал за работой
итальянские песенки.
И еще
всплакнет продавщица булочной. Чаще всего к ней обращаются со
словами: «Один хлеб, два батона», а человек в феске
называл ее «Милая барышня» и говорил разные красивые
слова.
Эберлинг
мог и так исчезнуть. Попросту говоря, сгинуть. Слава Богу, обошлось.
Так что умер он в положенный ему час.
Тут тоже
своя очередь. Он кое-кого из сверстников пропустил вперед, но
откладывать дальше было невозможно.
А.Р.Эберлинг. 1940-е годы. Все
случилось 14 июня 1951 года. Времени это заняло не больше, чем другое
неприятное занятие вроде переговоров с жилконторой.
Художник
любил одновременно делать разные вещи. Главные обязательно между
второстепенными. Словно они совсем не главные, а случайные и
необязательные.
Он и умер
так. После занятий с учениками сел в кресло передохнуть. То есть
сперва подумал передохнуть, но причина оказалось куда более
существенной.
Говорят, между небом и
землей есть «место взимания пошлины», где, по выражению
средневекового автора, собираются души людей «не вполне добрых
и не вполне злых»
Как это «не
вполне»? Уж не в том ли смысле, что не толст и не тонок, не
красавец и не дурной наружности, чин имеет не малый и не большой?
Вобщем-то
это о любом из нас. Нетрудно вообразить, какие столпотворения там
случаются.
Вот
у Лучшего друга и Главного персонажа всех художников было без
вариантов. Едва он появился в запредельных пространствах, так сразу
попал в чан с кипятком.
Пятьдесят
первый год, в отличие от пятьдесят второго, а, тем более, пятьдесят
третьего, был на удивление спокоен.
Бурно шла
подготовка к столетию со дня смерти Гоголя. Предполагался праздник не
меньшего масштаба, чем пушкинский тридцать седьмого года.
Анна Андреевна Ахматова
тоже по мере сил включилась в работу. Даже сказала своей
приятельнице, что она, «как и все наши граждане, в этом году
читала Гоголя».
И еще, как
мы знаем, умер Альфред Эберлинг.
Может, и
не столь глобальное это событие на фоне тех, о которых писали газеты,
но у близких своя оптика.
На
похороны пришли все. По крайней мере, те, кто к этому времени
продолжал жить в Ленинграде.
Явно
выделялись несколько седых голов, но преобладала молодежь.
Это все
его воспитанники. А это супруга, Елена Александровна. Если не знать о
том, кем она ему приходится, можно принять за ученицу.
Она и
есть ученица. На занятиях студии всегда сидела за мольбертом и вместе
с другими выполняла задания.
Иногда он и голос на нее
повышал. И совсем не за то, за что обычно мужья покрикивают на жен, а
за какую-то уж очень приблизительную светотень.
При этом
называл ее «на Вы». Смотрите, говорит, внимательней.
Старайтесь сделать так, чтобы было не хуже, чем в натуре.
Когда
совсем отчается, возьмет ее руку в свою и так вместе рисуют.
Особенно
расстраивало Альфреда Рудольфовича, что у нее не получаются портреты.
Рыбу или цветы пишет с вдохновением, а когда берется за Ленина или
Сталина, становится осторожной и робкой.
Всем
горько, а Елене Александровне горше всех. Куда ей податься без своего
маэстриньки? Каково одной среди его вещей, картин, фотографий?
Как, как? Неуютно,
тоскливо. Сколько у нее теперь проблем, а посоветоваться не с кем.
Можно еще
догадаться, чтобы он сказал по поводу ее рисунка, но нельзя
представить, как бы он решал разные хозяйственные проблемы.
Тут надо
все самой узнавать. Учиться платить за мастерскую, писать заявления в
Союз художников, думать о том, где достать немного денег.
Он ее
когда-то от всего этого освободил. Как привык в своей холостой жизни
все делать самостоятельно, так и потом ничего никому не перепоручал.
Оказывается, члену Союза
позволено жить приработками, а можно в том же Союзе получать
зарплату.
Елена
Александровна предпочла зарплату. Скорее всего, это Альфред
Рудольфович ей подсказал. Когда перед ним вставала такая дилемма, он
всегда выбирал твердый заработок.
Определили
ей не высшую, а среднюю ставку. Хоть и школа Эберлинга, а все же не
портретист. Следовательно, работаешь не для кабинетов и актовых
залов, а для холлов санаториев и гостиниц.
Даже
лучше, что санатории. Иногда рисуешь прямо по месту заказа, а заодно
дышишь воздухом и набираешься сил.
Тут тоже
свои ограничения. Порой требуется только рыба, а иногда только цветы.
Еще уточнят, что не судак, а лещ. Или, напротив, не гиацинты, а ромашки.
Елена
Александровна сразу соглашается. Это Альфред Рудольфович ее приучил
не привередничать, а делать то, что говорят.
Вообще старается не только к его советам прислушиваться,
но следовать ему буквально во всем.
Много в
мастерской места, но если она какое-то выберет, то в память о муже.
Включит лампочку над его столом, и так просидит весь вечер.
Помните,
стул у Ван Гога? Такой одинокий-одинокий. Да еще стоящий на угрожающе
скошенной поверхности.
Возможно,
это не портрет, а автопортрет. Рассказ художника о том, как он
наклонился над пропастью и пытается что-то внизу разглядеть.
Сейчас она ощущает себя не
лучше, чем этот стул. Все вглядывается в темноту и пытается увидеть
свое прошлое.
Прежде
бывало зашторит окно и зажигает люстру. Без еды студийцы еще
потерпят, а электричества им требуется немеренно.
И стул в
прихожей похож не на кого-то в отдельности, а на всю компанию. Ведь
учеников пришло столько, что уже вешалки не хватает.
Вот они
ворвались с гомоном, сбросили пальто, и сверху эту груду припечатали
шапками.
Был стул
единоличник, а стал коллективист. Взвалил на себя бремя ничуть не
меньшее, чем каменный Атлант.
Что об этом вспоминать?
Когда теперь заходят воспитанники Альфреда Рудольфовича, то они все
легко размещаются в круге горящей лампы.
ЭПИЛОГ
Квартира
одной из учениц Альфреда Рудольфовича. Тихий и мирный разговор.
Такого же градуса чай в наших стаканах.
Столько
десятилетий минуло, а Эберлинг для моей собеседницы по прежнему
«Альфред».
– Как
он замечательно шутил!
– Как
говорил об искусстве!
Этими
вздохами все и ограничивается. Я уже решил, что она не просто так
восторгается, но потому, что хочет уйти от прямого ответа.
И все же
что-то приоткрылось. К примеру, вспомнилась фраза: «А Вы
колёрист!» Перемена одной буквы – и знакомое слово
засверкало. Будто рядом с алюминиевой ложкой положили серебряную.
Затем
выяснилось кое-что еще.
Правда,
сначала глаза немного затуманились. Это она почувствовала близость
прошлого, но быстро справилась с волнением и начала говорить.
Странная штука память! Самые существенные разговоры испарились, а всякая
ерунда помнится.
После
занятий юные ученицы развлекались тем, что звонили во все звонки.
Тут
главное - сразу убежать. Нажал кнопку – и катишься вниз. Чуть
задержался - и уже вырываешься из чьих-то рук.
Однажды
убежать не удалось. Появившаяся из-за двери рука сгребла обоих
девочек. Стоявший на пороге человек выкрикивал что-то
нечленораздельное.
Обитатели
дома больше всего на свете боялись длинных звонков. Именно так
оповещали о своем визите военные вместе с примкнувшими к ним
дворником и понятыми.
Поэтому,
возвращаясь домой, жильцы к кнопке едва прикасались.
Так они
предупреждали особо нервных товарищей, что это не люди с обыском, а
кто-то из домашних с хлебом и молоком.
Мало
того, что ученицы звонили попусту в двери, но из витражей
выковыривали стеклышки. И как радовались! Не трофеям, конечно, но
своей решительности.
Сначала
добычу пару дней носили в ранце, а потом выбрасывали.
Легко
взмахнут рукой – и стеклышки растворятся в воздухе, на один миг
соединившись в полете с резинкой и мелком.
Можно
представить как бы реагировали «Старые годы» на эти
шалости. По куда более скромным поводам его авторы возвышали голос до
тональностей пронзительно-резких.
Сегодня
никого бы не удивило, что девочки сперва склонялись над
репродукциями, а потом шумно скатывались по лестнице.
Зато
Эберлинг на нынешний вкус выглядит старомодно. Уж он бы не стал
покушаться на чужое творение. Даже громко смеяться над ним никогда
себе не позволил.
Альфред Рудольфович не был замечен в любви к голландскому мастеру Ван
Донгену, но одна работа ему сильно приглянулась.
Он поместил репродукцию в паспарту. Как видно, какое-то время она висела
у него на стене.
После смерти Альфреда Рудольфовича ученики совершили над репродукцией
публичную казнь.
Не спрятали куда подальше, а определили ей место в сортире.
Шутка, конечно, богатая. Сядешь на стульчак и картина как раз на уровне
глаз. Сурикова молодые художники смотрели стоя, а Ван Донгена
исключительно в такой позиции.
Не только с этой картиной,
но и с самим запредельным миром у его воспитанников установились
отношения фамильярные.
К примеру,
кто-то придумал снимать друг с друга гипсовые маски. Вроде рановато
думать о такой перспективе, но они решили примериться.
Сначала
один лежит неподвижно, а другой колдует с раствором. Потом меняются
ролями. Веселились так, будто маски не посмертные, а карнавальные.
Затем
вешали маски на стену и садились выпивать. Что-то было в этой картине
смутно-знакомое, напоминающее сцену из «Вия».
«...Хома отворотился
и хотел отойти от гроба, но, по странному любопытству, не утерпел и
взглянул на нее…»
То-то и оно, что «не
утерпел». Бывают такие нетерпеливые люди. Они хотят не только
побольше взять от жизни, но и немного приобщиться к смерти.
В общем, увлеченности и
задора хватало. И это, несмотря на то, что обитали в коммуналках,
вещи перешивали из военной формы. Даже на свою свадьбу один ученик
явился не в пиджаке и рубашке, а в тельнике и матроске.
Кстати, на эту свадьбу
Альфреда Рудольфовича не позвали из соображений едва ли не
художественных. Странно выглядела бы в таком окружении его черная
шапочка и широкая куртка.
И еще
ученики любили поболтать. Наработаются у мольберта до полного
одурения, а потом отправятся к учителю передохнуть.
Разумеется, каждый тащит
бутылочку. Уж какой без бутылочки откровенный разговор?
Кости тоже
кое-кому перемоют. Хоть не до полного блеска, но с удовольствием.
Сначала поговорят об одном, а затем примутся за другого.
Так
запасутся на неделю последними новостями - и вернутся к начатому
холсту.
Иногда
вдруг вспомнят: а что так веселились в последний раз? Ах, да,
вспоминали Александра Герасимова. Уж сколько о нем всяких историй, но
эта самая лучшая.
Чего,
казалось бы, нужно человеку, по самый пупок увешенному наградами, но,
оказывается, и его мучает тоска.
В те дни,
когда Александр Михайлович полон самоуважения, он рисует портреты
вождей, а едва занервничает, принимается за цветы.
В минуту
особенно сильных переживаний потащил свои цветы к Нестерову. Будто и
не Президент, а просто художник, надеющийся заручиться одобрением
коллеги.
Вот, мол,
дорогой Михал Василич, мои розы. Годятся они на что-то или нет? И еще
на всякий случай сказал, что хочет посвятить свою работу Константину
Коровину.
И нести
холст Нестерову странно, а посвящение так совсем ни к чему. Ведь
Коровин вместе со всеми своими вазами и букетами много лет находился
в эмиграции.
Нестеров
оценил не решительность, а само полотно. Сказал, что не видит
никакого сходства. У Констин Алексеича розы пахли, а эти орут.
Герасимов сник после таких
слов, но потом вновь обрел положенную осанку. Уже через несколько
дней сидел в своем кабинете с обычным меланхолическим выражением на
лице.
Как бы
говорил этим выражением: а вот и я! спустился к Вам с самых вершин
Олимпа для того, чтобы разобраться с членскими взносами и
ассортиментом кистей.
Тут можно
выпить. Помянуть, так сказать, порывы Александра Герасимова. Как-то
не слышно с тех пор о его натюрмортах, а, тем более, о походах к
старым художникам.
Не
удивительно, что после подобных разговоров вырастают горы немытой
посуды.
Однажды ко
всем этим неизбежным последствиям прибавилось письмо.
Началось все с досады на
то, что в их компании не хватает одного приятеля. Все так
испереживались по этому поводу, что решили напрямую к нему
обратиться.
Один написал
«многоуважаемый», другой - «многоуважатый»,
а третий - просто «Слава». При этом стаканы не отставляли
в сторону, а с шумом опускали на страницу.
Хорошо
сидим, желаем разделить свои чувства с отсутствующим другом, а потом
налить по новой. Судя по разводам, красного и белого в тот вечер было
через край.
Расскажут что-то и выпьют
еще. Под конец удивятся, что вино кончилось, а в запасе осталась пара
историй.
Пусть и не
впервые этим делятся, но с неизменной радостью. Вроде как смотришь
любимую картину, а она с каждым разом убедительней.
– Помните,
как рассматривали репродукции в альбомах, а потом бежали по
лестнице? –
Как не вспомнить? Еще
выковыривали стеклышки! Предлагаю рассмотреть неправильное поведение
бывшей пионерки, а ныне заслуженного художника РСФСР.
И тут же
обеденный стол превращается в стол заседаний. Кто-нибудь постучит по
тарелке, призовет к вниманию, и скажет так:
– Не
только неправильное, но и антинародное.
И другие
подхватят:
–
Опошление, граничащее с
издевательством!
– Крикливое
трюкачество! Образец формалистического самодовольства!
Совсем
недавно эти формулы приводили в трепет, а теперь над ними
иронизируют.
Пусть их автор не только
жив, но занимает свое место во всех президиумах. Возможно, так и
умрет, не покинув должности вице-президента Академии художеств.
Погалдели, выразили свое
отношение к прежней эпохе, а затем вспомнили нечто серьезное.
Уж эту-то историю забыть
невозможно.
В воскресенье, двадцать
второго июня, в самый разгар занятий, Эберлинг сообщил, что студия
закрывается.
Объяснение было какое-то
странное. Они и не сразу поняли, что он имеет ввиду.
Этот
человек воистину праздничной внешности не очень подходил для подобных
известий. Скорее, он мог бы объявить о туре вальса, чем о начале
войны.
А еще такой рассказ. Как-то
один студиец выразил удивление по поводу качества темперы.
Оказывается, когда-то давно Эберлинг купил ее в Италии. Помнится, еще
Валентин Серов просил привезти для него.
Альфред Рудольфович не
пожалел денег на краски. Хватило не только Серову на «Княгиню
Орлову», но и студийцу на его «Делегатку».
Кстати, об этом письме.
Отчего они так разволновались? Переворачиваешь страницу и
обнаруживаешь ответ. Ставшие вдруг неожиданно-ровными буквы сообщают,
что сегодня «день памяти А.Р.»
Разные
бывают вечеринки. Иногда просто заложат за воротник в связи с
хорошим настроением, но на сей раз выпивали со смыслом.
Потому-то
так переживали, что кто-то не пришел. И через много лет студия - это
студия. Тут один за всех и все за одного.
Ученики
многим обязаны Альфреду Рудольфовичу. И не только потому, что,
благодаря его урокам, пуговицы на их рисунках блестели, а волосы
курчавились. Куда важнее то, что каждый из них понял о жизни.
Возможно
поэтому многие из них стали не просто художниками, но еще и
начальниками. И не просто начальниками, народными и секретарями
Союза, а веселыми жизнерадостными людьми.
И все же ученикам было
легче. Чаще всего их не обременяла нерусская фамилия или чуждое
происхождение. Поэтому они ощущали себя куда более раскованно.
Если
чего-то им и не хватало, то изящества. Даже поклоны Альфреда
Рудольфовича в сторону власти отличала чопорность и церемонность.
И в
положении понятого их учитель был мало похож на тех, кому обычно
выпадает эта роль.
Опять
выручала прирожденная импозантность. Могло показаться, что он
неслучайно оказался в компании с дворником и военными.
Выходило
что-то вроде тройственного союза. Рабочий класс, доблестная армия, и
– любимец муз. То есть ведущие силы общества - и Альфред
Рудольфович, наблюдающий за ними со стороны.
«Все
проходит», - говорил царь Соломон. Пусть не забывается совсем,
но перестает иметь значение.
Чаще всего
это происходит тогда, когда опасность миновала. Уже и не вспомнить
бывшей ученице, что так напугало соседа Альфреда Рудольфовича.
Конечно,
забвение началось давно. Уже в самом конце жизни Эберлинга появились
кое-какие симптомы. Вообще ощущения были препротивные. Особенно после
того, как он встал на костыли.
Пришлось
забыть о роли Первого прохожего. И вообще многое стало неважно. Даже
о массовке на лестнице, где он выполнял все, что положено статисту,
думать уже не хотелось.
И о
минувшем старался не вспоминать. Пусть не впервые старался, но в эти
годы больше обычного. Вдруг что-то всплывет в памяти, но долго на
этом не задерживаешься.
Вроде
сказал себе - не думать, но слова не сдержал. И один, и второй раз.
Потом, конечно, брал себя в руки, но не без особых усилий.
Однажды
опростоволосился. Совсем молоденькая ученица спросила, известно ли
ему, где находится их школа.
- Ну как
же…, - ответил Альфред Рудольфович, - Это дворец Великой
княгини Марии Павловны. Мы часто ходили друг к другу в гости.
Это он
проговорился. Чаще всего на подобные вопросы просто не отвечал. Еще
превращался в этакого буку, всем видом показывал, что совсем не
нуждается в прошлом.
И еще как-то
разоткровенничался за чашкой чая.
Не оттого ли, что
собеседница тоже носила подозрительную фамилию, почувствовал к ней
доверие? Впервые не скрыл того, что в прошлой жизни был придворным
художником.
- Вы так
похожи на Государыню Марию Федоровну!
Словом,
предупредил. Сказал о той опасности, которая ясно прочитывалась в ее
лице.
Впрочем, сколько не
старайся, все в конце концов истончится до абсолютной прозрачности.
Не только вещи расползутся и пойдут трупными пятнами, но в голосах
свидетелей появится оттенок вопросительности.
Раз уж
«река времен в своем стремленьи уносит все дела людей»,
как сказал Державин, то что говорить о куда более скромных событиях,
когда-то произошедших на Сергиевской.
Хотелось
Эберлингу или нет, а его время истекло. В новую эпоху почти не
вспоминали этого мастера. Если только проскользнет в разговоре: был,
мол, такой, носил феску и куртку, а на мольберте всегда стоял
незаконченный Ленин...
Даже те из учеников, кто
уже обзавелся должностями, ничего тут поделать не могли. Порой
встретяся в Союзе или Академии и жалуются друг другу:
–
Совсем не знает новое
поколение Эберлинга.
А потом
прибавят в сердцах:
- Лучше бы они не Матиссом
и Пикассо увлекались, а учились мастерству на любой из альфредовых
картин.
И все же
что-то удалось спасти от забвения. Пусть и не всегда то, что
предназначалось для вечности.
«Храм
Терпсихоры» сохранился плохо. Краски почернели настолько, что
уже трудно сказать, кто тут изображен.
А
некоторые мгновения радуют как прежде. Скульптурка и вазочка на своих
местах. Кажется, Тамара Платоновна сейчас войдет в комнату и удобно
устроится на столе.
Что еще удалось сберечь?
«Маэстриньку», «проце-дуру», «колёриста».
И еще пару-тройку историй разной степени важности.
Немного,
конечно. Хотелось бы сберечь что-то более существенное, но
сохранилось это.
Придется
признать, что память - штука нетвердая. Не сравнишь с мрамором,
стеклом и прочим строительным материалом.
Как мы
помним, был он Колобком и Дон Жуаном. Впрочем, оба эти его качества
взаимосвязаны. Дон Жуан тоже все время расстается и торопится дальше.
Так что
ничего удивительного нет в том, что напротив дома на углу
Воскресенского и Сергиевской расположилось бистро «Колобок».
Именно
«бистро», и именно «Колобок». Для того, чтобы
сказочное имя не звучало старомодно, рядом поставлено энергичное
иностранное словцо.
У нас всегда так. Не только
новое или, напротив, старое, но в некоей обязательной пропорции.
Вот хотя
бы реклама в газете: «К трехсотлетию Санкт-Петербурга!
Тридцатипроцентные скидки на удаление угрей».
Ухмыляетесь? Очень
напрасно. Альфред Рудольфович никогда бы Вашего скепсиса не разделил.
Он всегда
придавал значение тому, как человек выглядит. А уж к праздникам
готовился заранее. Чуть ли не за неделю начнет приводить себя в
порядок.
До тех пор
пока шевелюра позволяла, не применет возможностью лишний раз посетить
парикмахерскую. Иногда выходило наведываться в косметический кабинет.
Вот мы и
подошли к самому главному. Если художник отличался такой
требовательностью, то надо признать логичными начавшиеся на
Сергиевской перемены.
В конце
минувшего столетия невзрачный первый этаж украсили дверь и две
лестницы. Над всем этим великолепием засверкали буквы: «Посольство
красоты».
Для того,
чтобы по достоинству оценить название, надо помнить о том, что
невдалеке находятся финское, немецкое и американские консульства.
Мол, это у них
консульства, а у нас посольство. Причем выступает оно не от имени
конкретной территории, а от всей необъятной сферы мечтаний.
Сколько не
всматривайся в окна, ничего не разлишишь. Что-то такое полированное
и отсвечивающее. Ясно, что этот мир непохож на тот, в котором нам
приходится жить.
Пусть и
маленькое государство, но гордое и уверенное в себе. Даже два флага
висят над входом в знак его независимости от окружающей бесцветности.
Когда-то
мы уже предлагали наделить дом этим статусом. Хотя бы на том
основании, что занавеску в мастерской Эберлинга некогда украшал
слоган «Искусство для искусства».
Под видом
прохожего, ожидающего троллейбуса, стоишь и наблюдаешь невдалеке.
Вот вошла
грузная дама. Через полчаса она выпорхнет легкокрылой бабочкой.
Засомневаешься:
она – или не она? Вроде шапка и пальто те же, а лицо и фигура
другие.
В чем тут причина? Красота
исключает мрачные взгляды и двойные подбородки. Исключает в процессе
пребывания в этом учреждении, принятия лучевых и водных процедур.
Как это
сказано в его повести? «Если пропал, то это дело медика.
Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно
нос».
Словом, посольство при
деле. С утра до вечера несет в мир гармонию. Из самого неблагодарного
материала извлекает классические черты.
Альфред
Рудольфович тоже этим занимался. Как увидит что-то уродливое, то не
мирится, а старается привести в соответствие с нормой.
А иногда
не в красоте дело, а в куда более высоких соображениях. Распорядятся
«осветить поэффектнее» - он осветит. Скажут «поработать
над взглядом» - сделает как положено.
Так кто же
мастер косметических операций? Альфред Рудольфович или новые
обитатели этого особняка?
Потому-то
и ощущения неоднозначные. Радуешься тому, что дом остался
«посольством», но и немного грустишь.
Не
очень-то приучены жители нашего города к разнообразию. Может, только
цвета предпочитают иные, чем прежде.
При Гоголе
огромные пространства покрывало зеленое сукно, а под конец жизни
Альфреда Рудольфовича преобладал габардин.
Обилие
вицмундиров Николаю Васильевичу напоминало весну, а неизмененный
габардиновый фон имел отношение к привычной для Питера слякотной
погоде.
В том и
заключался далекоидущий замысел ленинградских пошивочных мастерских,
чтобы поставить все точки над «i».
Нет ничего
более красноречивого, чем серое двубортное пальто. А уж когда шляпа
пирожком займет свое место, то картину можно считать завершенной.
Всякий
человек, похожий только на самого себя, сразу вызывает интерес.
Чего это он решил
выделиться? Габардина, что ли, на него не хватило? Кто дал ему право
предпочесть двум рядам пуговиц какие-то металлические застежки?
Именно
эти вопросы начинали клубиться во многих головах, когда Эберлинг
появлялся на улице.
Он и
сегодня мог бы произвести впечатление. И дело тут не только в феске,
которая так и не привилась в наших краях, но во всем его облике
художника и артиста.
Вот бы
Альфред Рудольфович опять возник на своей улице! Просто подождал,
когда загорится зеленый, а потом медленно двинулся мимо замерших
перед ним машин.
Воображаешь
его уверенную фигуру. Уж, действительно, посол. С первого взгляда
определишь гостя издалека, посланца иной системы координат.
Начнешь фантазировать, а
потом себя остановишь. С чего бы ему появиться? Совсем другие люди
поселились в его доме. По своему симпатичные и достойные, но никогда
им не оказаться во главе городской толпы.
Потому-то
лучше не упрекать Альфреда Рудольфовича, а принять таким как есть. С
этой феской, портретами вождей, массивным «Кодаком» и
собранием фотографий.
Кому-то
непозволительно, а ему трудно запретить. Все-таки красота –
великая сила, а люди безгрешные за последнее столетие окончательно
перевелись.
И других
наших героев тоже надо поблагодарить. Не только Тамару Платоновну и
Мухина, но Грабаря, Енукидзе и семейство домовладельца Вейнера.
Как
получилось, что они пересеклись? Карсавина с Мухиным, Эберлинг с
Карсавиной… Вроде им в разные стороны, но оказалось по пути.
Так и представляешь их в
какой-нибудь необгонимой тройке. Сидят рядом, смотрят то вперед, то
по сторонам. Отмечают про себя, как быстро меняется жизнь вокруг.
Кстати,
Остроумова-Лебедева тоже здесь. Сама не любительница столь
решительных способов передвижения, но тут оказалась за компанию.
Смотрит
сквозь свои круглые очечки. Обычные такие очечки, как у многих людей
ее возраста, а, в тоже время, не совсем.
Глядит
Анна Петровна в эти стеклышки и Петербург обретает завершенную форму
медальона.
Правда, где он, Петербург?
Только что был, посверкивал куполами и водами, а уже позади.
Вперед,
вперед! Бричка разгоняется и поднимается над землей, подобно
колеснице Ильи-пророка или самолету.
Застывают
в немой сцене и улетают куда-то вдаль прохожие, лес сменяется полем,
а за этим мельканием следит с высоты неподвижный месяц.
А что
касается колеса, о котором упоминается в начале поэмы, то можно и
совсем без колес. Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к
себе… Все гремит, вспыхивает, брызжет огнем… Не
разобрать, то ли даль внизу, то ли над головой.
Прямо-таки
Божья гроза или, как говорит Николай Васильевич, Божье чудо!
Даже не по
себе становится от звука неумолчно звучащего колокольчика.
Тут не
только отдельные граждане, но народы и государства посторонятся и
переспросят друг друга:
- Не надул ли нас уважаемый
автор (варианты: щелкопер, бумагомарака…)? Не придумал ли эту
историю, а, заодно, и всю эту страну?
P.S.
«И
веревочка…», - как говорил Осип в «Ревизоре»,
что в контексте нашего повествования может означать: «И еще
несколько слов».
Первое
впечатление от мастерской Альфреда Рудольфовича было
кинематографическое. Включались в основном глаза. Я охватывал
подробности и, в то же время, картину целиком.
Передо
мной располагалось не только пространство, но и время. Приглядевшись,
я даже различал годы. Начал отсчет с отменной лупы и календарей
начала века, а завершил портретом Сталина и номером «Правды».
Невозможно
рассказать жизнь Эберлинга подробнее, чем говорят вещи и предметы.
Этой ручкой он писал Карсавиной. В эту чернильницу он обмакивал перо
… Вот из таких деталей складывается узор его судьбы.
Мысленно
сравниваешь обстановку и фотографии. Да, все совершенно точно.
Несомненность жизни прежних владельцев подтверждается тем, что их
вещи на своих местах.
На
одном из снимков Карсавина прилегла на письменный стол. И сейчас на
этом столе ничего не изменилось. Хотя сама Тамара Платоновна его
давно покинула, но скульптурка и фолианты те же.
Мастерская
пережила блокаду и страшный пожар, а сохранились не только частности,
но и атмосфера. Кажется даже, запах духов, перемешанный с цветочными
запахами, еще не испарился.
Странно,
конечно. А потом еще встречаешь диковинную персону. Тельник, джины,
растрепанная бородка… Сидит, развалившись, под портретом
вождя. Вроде как склубился из пыли времен.
Потом
догадываешься - кукла. Вместо головы - шляпа и очки… Нынешний
хозяин мастерской, петербургский художник Владимир Загонек, дополнил
картину подходящим к этому интерьеру фантомом…
Здесь все
готово для съемок, рассматривания и лицезрения, крупных и общих
планов. К тому же, этот мир распадается на ракурсы. Самый удачный со
двора. Сразу представляешь кадр с большим окном и стеклянной крышей.
Было
бы эффектно поместить на балконе солидного господина. Лучше
использовать феску и куртку Альфреда Рудольфовича. Благо над его
феской и курткой время тоже не властно.
Стоит
этот человек буквально между землей и небом, курит сигару. Тут камера
начинает следить за тем как дымок выпархивает в направлении столь же
курчавых облаков.
Набросав
что-то вроде экспликации возможного фильма, можно переходить к
титрам.
Себя,
конечно, пропускаю. Теперь режиссер. И не просто режиссер, а
известный документалист Владислав Виноградов.
Когда
я впервые пришел в мастерскую, то сразу понял, что подобные вещи (в
прямом и переносном смысле) должны Виноградова заинтересовать. Не
уверен, сделаем ли мы задуманную нами картину, но его размышления
оказалась для меня очень полезными.
Потом
собственно участники.… Книга не была бы написана, если бы не
беседы с людьми той эпохи. Наиболее важными историями и сюжетами я
обязан ученицам Эберлинга М.С. Давидсон, А.Г. Кук, К.К. Литовченко,
Л.В. Рахманиновой, З.Б. Томашевской.
Самой
существенной оказалась помощь В.В. Загонека.
За
долгую жизнь рядом со старинными предметами стал Владимир
Вячеславович чуть ли не их полномочным представителем. Так что наши
чаепития под большим абажуром оказались не просто содержательными.
Это была возможность свериться с точкой зрения жившего тут когда-то
мастера.
Кстати,
Загонек вместе с историком фотографии В.А. Никитиным много сделал для
того, чтобы заново открыть искусство Эберлинга. В дни
стодвадцатилетия со дня рождения Т.П. Карсавиной их усилиями
открылась замечательная выставка фотографий в петербургском
музее-квартире И.И. Бродского.
Кроме
разговоров, мне очень помогли различные документы и материалы. В
основном я получил их от Загонека, но кое что обнаружилось в
Российской Национальной библиотеке, архиве Управления ФСБ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Центральном государственном
архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской
Театральной библиотеке, Санкт-Петербургском музее-квартире И.И.
Бродского, московском музее фабрики «Гознак». Искренняя
благодарность сотрудникам этих учреждений.
Еще надо
сказать о первых читателях. В отличие от читателей вообще, их роль
заключается в том, что они могут непосредственно влиять на текст.
Так и происходило после того, как с рукописью знакомились Е.С.
Алексеева, А.Ю. Арьев, В.Б. Виноградов, Я.А. Гордин, З.Д. Давыдов,
Л.С. Дубшан, О.Б. Кушлина, Е.С. Новикова, А.Л. Шор.
Отдельное
спасибо Николаю Васильевичу. По разному складываются наши отношения с
любимыми авторами, но, кажется, только от него мы ждем защиты. Все
надеемся – по примеру другого классика - спрятаться в тепло его
необъятной шинели.
9 марта 2005 года
2 – Заключения финансовых проверок за 20-24 гг. , проводившихся по ул. Чайковского, хранятся в Санкт-Петербургском Историческом
архиве. назад
3 – Черновики писем А.П. Остроумовой-Лебедевой Л.П. Берии хранятся в
рукописном отделе Российской Национальной библиотеки. назад
Главы вторая, третья и четвертая
документальной повести А. Ласкина "Гоголь-моголь"
опубликованы в 11 номере интерет-журнала "Toronto Slavic Quarterly"
за 2005 год.
Декларация
о намерениях
Переделка
Не
нравится? Ешь!
Эберлинг
за столом
Тост
Семейные
радости
Соавтор

Почему
Эберлинг не из Тифлиса?
…и
Михаил Булгаков
Слоны
на водопое
Разговор
с Михаилом Булгаковым о природе вещей
Договор
Стоимость
вообще
Примеры
Еще
примеры
Имена и
обстоятельства
Разногласия
… и
балерина Семенова
Указания
и оговорки
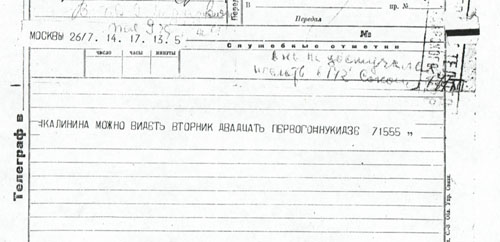
По
дороге в тюрьму
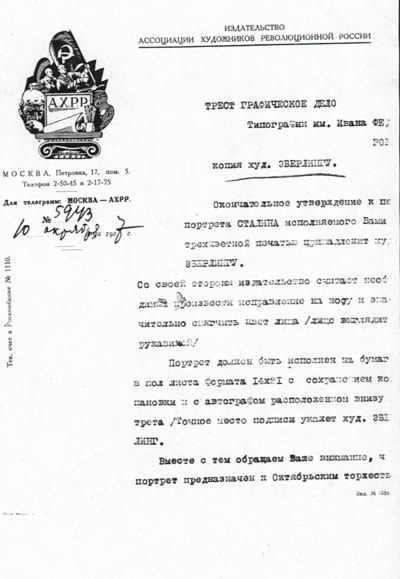
Сложение
и вычитание
Как это
было
Тайна
Альфреда Рудольфовича
Суд
Сколько
до берега
И
другие обстоятельства
Голова
Ленина
Эскизы
Варианты
Другой
Сталин
Плюшкин.
Календари
Плюшкин.
Вырезки
Появление
Грабаря
Опять
оговорки
Двойная
бухгалтерия
Море и
диваны
Предыстория
Уроки
арифметики
Пятый
пункт
Пятый
пункт (продолжение)
Сон
Грабаря
Очки
и феска
Блокада
Купля-продажа
Сын
Удача
Новая
жизнь
Пейзажи
Ампутация
Выход
Портрет сына
Привет
из прошлого
Коллективное
фото
Появление
Остроумовой
Дорогой
товарищ
У каждого в жизни есть
заячий тулупчик. Другое дело, что не все считают нужным за этот
тулупчик отблагодарить.
Челобитная
Матрос,
Дальтоник и Репин
Смерть
Эберлинга

Похороны
Жизнь
его вдовы
Разговоры
о Эберлинге
Развлечения и ужас
И еще развлечения
Ван Донген и не только
Розы
День памяти А.Р.
Особенный человек
Время истекло
Время
истекло (продолжение)
Время
и стекло
Посольство
красоты
Прощайте,
Альфред Рудольфович!
Необгонимая тройка
1 – Большинство цитируемых документов (вырезки из газет, официальная и
личная переписка, рукописи) хранятся в личном архиве А.Р. Эберлинга,
принадлежащем петербургскому художнику В.В. Загонеку. Случаи, когда
документ находится в другом хранилище, оговариваются особо. назад
