| На "Опушку" |
| За грибами |
СЕРГЕЙ СПИРИХИН, РОКСОЛАНА МИКИТА
НЕЗАБЫВАЕМОЕ КИНО, НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗВЕЗДЫ
ПОВЕСТЬ
(с переводом на русский, немецкий и итальянский)
(все так, как было, как есть, расследование)
от первого лица
с документами от второго
-
- Где же это случилось? Когда? Как случайно? Случайно ли? Бывает ли так? Как это стало возможно?
- Пусть это будет сценарий, пусть будет кино на бумаге, чтобы представить все снова, пока еще есть время, пока венский ветер не …
- Кино. Первые кадры. Мы в кинозале. Я его еще не знаю (я еще не знаю тебя): поразительный шарм, аристократические руки, волосы, профиль, несколько слов о кино, обо мне… знакомство в фильме, во время сеанса – уже одно это означало, что будет история, что между нами будет интрига, возможно, любовь, страсть, невозможность, трагичность, счастливое стечение обстоятельств (когда режиссер благосклонен к своим героям), прекрасные, насыщенные свето-тенью картины, антураж, предметы, имеющие особое значение – проч.
- Звуковой фон: тиканье часов, возможны удары сердца, также двух сердец, четырех, больше … это сердца зрителей, конечно.
- Реальность… несколько реальностей… все это ирреально, потому что любовь и искусство – все это искусство любви к жизни…
- Любовь – это тотальный перформанс, где вымышленное, настоящее – все есть подлинная реальность; что может быть реальнее? – смерть?
- Зритель увидит кадры: я с пистолетом, кровь на виске,струится
- (как красив этот поворот головы… в зале слезы, сдержанные всхлипы, наконец, безудержное рыдание режиссера: да, это он виновник этой истории)
- Он пришел в тот вечер в кино не случайно: он киноман и киномен – человек кино. Оттого у него такая внешность, герой-любовник… он сам весь вымысел, он – злоумышленник любви!
- Соблазнитель. Вечная фигура на сцене времен. Почти неизменная. Так, кое-какие детали: мобильный телефон, например, по которому он пересылает мне из Швейцарии или Парижа, Рима – сообщения-стихи.
- Нет, он не холоден, он также взволнован, он влюблен… но – по-своему, своеобразно.
- В этот раз он не взял меня в Швейцарию. Я говорила, что буду спать на вокзале, питаться пирожками, что вообще не хочу есть... просто видеть его на фоне озера, прогуливающегося по песку с тростью... вдруг я выскакиваю из-за дерева – ав! Он злится (притворно): ты что, сегодня ночевала на вокзале? Там же бомжи! Блохи! Ты сумасшедшая! –Немного, мой господин.
- Я несколько для него лолитовата. Меня зовут Лана. Я изучаю итальянский и буду переводчиком любовной лирики Данте. Пока моя собственная любовь не дает мне никаких шансов заняться переводом Великих Влюбленных Древности.
- Любовь – это мания. Как говорят врачи, болезнь духа (не думаю), напротив, это нормальное мое состояние, но если это и так, на ее фоне у меня развилась еще одна мания – именно «клепто»: в первое же посещение его дома, я своровала его любовные письма… его любовные письма все были не ко мне! Это было потрясением… По Стендалю – произошла «кристаллизация»…
- У меня много его вещей…
- Есть и носок, как у Набокова.
- У меня такое подозрение, что это я Набоков, а он – Лолита… легкомысленный, по-детски жестокий… Плюс – в отличие от него (от этой Лолиты в брюках) у меня все же славянская душа.
- Он любит яблоки.
- Пруста.
- Мы вместе молимся Веничке Ерофееву, когда что-то не так.
- Но я не могу пить: от вина меня укачивает, взгляд расфокусировывается… Я люблю смотреть, как он медленно пьет, покручивая вино в рюмке, смеется…
- Я помню все ступеньки, по которым мы ходили, поднимались, опускались, атмосферу, запахи…
- …от Оперы исходит запах навоза, это правда, потому что лошади возят туристические группы в колясках, каретах, раньше, при Моцарте и Сальери – и вообще всегда – со времен центурионов - … но это не эрозия. Это эротика Истории.
- Музеи, картины, города, острова, взморье, гроты, кладбища –
- Все это существует и помимо нас, но помимо нас всего этого не существует.
- ……..
- Итак, приступим к подробному (кинематографическому) описанию истории (которая вовсе еще не закончена, как, возможно, показалось читателю, напротив, записки эти есть лишь продолжение, еще один виток, допустим, разума, как сказал бы с кафедры абстрактный философ)
- 1
- Вечер в Вене. Осень. Сначала осыпаются каштаны, буреет их листва. Каштаны осыпаются плодами, падают плоды вниз и разбиваются с тупым треском. Глянцевитые семечки, орешки, гладкие, теплые, если носить их в руке. Горячие, когда только что с раскаленного железа. Их насыпают в кулек, по шесть штук. Больше трех не съесть. Пресыщение от каштанов, даже если с утра ничего не ела.
- Только я ненасытная.
- Стройные ноги, мягкие жесты. Это притягивает и женщин, и мужчин. Я ходила в то лето в кино ежедневно. «Незабвенные фильмы, незабываемые звезды». То, что всегда популярно – процент китча – неограничен. Но я не чураюсь, над чем еще можно так сладко поплакать, если не над дивой, которая была так обольстительна, так прекрасна давным-давно, до войны…
- Иногда я плакала просто из-за шуршания пленки, из-за белых полос на экране, которые неизбежны и уже неистребимы.
- Уж плакать, так плакать. Был смешной случай, когда я проплакала 12 часов без остановки, все более удивляясь природе: ведь это же надо иметь внутри столько горькой жидкости, столько соли океана! (как-нибудь расскажу).
- И вот, когда уже все каштаны облетели, он сел, мой Карл, рядом. И вдруг – поцелуй, тот, что слетает с коралловых уст как предвестник. Мы обменялись первым поцелуем. Как это странно: нас двое, а поцелуй – один… «Не плачь, дитя», вот что было этим сказано.
- Изумление, восторг, благодарность. Я же безотцовщина, Гаврош. Вечный шпион.
- Мы вышли из кинотеатра «Незабываемое кино, незабываемые звезды» как сообщники, как сотрудники какой-то тайной разведки, посланные из звездных глубин, из тех черных дыр, куда уже нет возврата, как бы проклятые, избранные, забытые, отмеченные судьбой.
- О, он еще тот шпион!
- Тот еще вруль!
- Бл-бл-блу-бло-бл-бла-блу-блу-блэ-бл-бл-блу-бла-бля… - его изобретение, новый язык, над которым, как он утверждает, он работает (когда не хочет меня видеть). –Почему ты не позвонил? Ведь мы могли бы увидеться. –Ты же знаешь: я разрабатываю птичий язык, вот послушай последние комбинации: блэм-блум-блам-блям… – Какая же ты все-таки скотина, Карл.
- Ну ты просто какая-то вопиющая корова (кул), говорит Карл, опять ревешь, ничего не хочешь видеть, кроме себя. Посмотри-ка лучше, какие вокруг зе-ле-ны-е луга!
- Не дави на меня, не дави на мою нежную психику, говорит он по телефону, я же сказал тебе – люблю, ихь либе дихь, ту ферштейст михь?
- Но мне нужно большего.
- Первая ночь в отеле. Мы сняли номер. Было забавно. Его все знают, он меня представляет как русского писателя, намекая, что я его переводчик, перевожу его книгу эссе о театре. Это он сказал портье, хоть в этом не было необходимости (портье пожал плечами: мне все равно, какие причины заставляют вас снять номер на сутки) – мы заплатили напополам за одну двуспальную кровать.
- Он вышел осмотреть коридоры, за шампанским.
- Я убрала кровать лепестками роз (на цветочном углу сказала: я фотограф, не могли бы вы мне дать оставшихся лепестков) и залезла под кровать голая, как лепесток, дрожащая…
- Он возвращается: что за чудо? Лепестки, которых не было, есть, а той, которая только что была в розовых трусах, нет!
- Он опять вышел. И опять вернулся.
- Я вижу его не чищенные туфли. Они ходят туда-сюда в тихом недоумении. Ни звука.
- И тут зазвонил мой мобильник!
- Это он, подумав, что меня выкрали и сейчас будут требовать выкуп, позвонил узнать цену.
- -Эй, сказала я из-под кровати, дай-ка мне мой телефон, кто-то звонит.
- У него была совершенно счастливая и растерянная физиономия, когда он залез ко мне под кровать. Там же, под кроватью, и произошло то, что называется в романах блаженством обладания, криками любви…
- Приготовленная им кинокамера (эти кадры, возможно, сохранились) так все и запечатлела: пустая кровать завалена лепестками роз, кровать завалена лепестками, лепестками алых роз завалена, завалена миллионом алых лепестков пустая широченная кровать…
- Он гордится мною. Ему нравится прогуливаться со мною на людях… меня же все раздевают (глазами), а заодно и его… Но это все на грани провала, игра в опасность… Он говорит мне, опомнившись: «ты же не выходибельна, зайчонок», «ты презентабельна, но дико невыходибельна!» «Одевайся попроще: какие-нибудь зачуханные джинсики, джемпер с Нашмаркта, тебя будет проще выдавать за студентку, кедики напяль, разучи список жаргонизмов…»
- В театре я сидела радом с Йонке, знаменитым писателем, Карл сидел пониже, через ряд. Я любуюсь его позами, профилем (он как бы сошел с картины Караваджо – лютнист в венке), он такой рассеянный, свободный в проявлениях поз, что я вдруг замечаю, что он, забросив руку на спинку кресла, промахнулся и положил ее на плечо декольтированной даме в жемчугах. Я испугалась: сейчас она ему ответит оплеухой! Нет, не ответила, тоже увлекшись сценой. А на сцене – такая, пардон, ерунда, какие-то тетки передвигаются по сцене, замусоренной газетами, ни декораций, ни игры… Этот европейский театр, проникнутый символизмом, отстранением актера от самого себя, переносящий ответственность за переживание эстетического на зрителя: мол, сам воображай, то, что мы недовообразили… Вот Станиславский – это действительно такая игра – в верю-не- верю. И драматургия любви…
- У нас также, но иногда это похоже на театр абсурда.
- Представьте: у меня День рождения (с которого и начинается приключенческий роман жизни) – и он приходит на ступеньки в Музеумквартир и дарит мне книгу «Поэзия любви» – стихотворения, на обложке – изогнутая роза! А я его жду и плачу. Я посмотрела в стихотворения – и меня затошнило, замутило: стихотворения такие никчемные, такие сладостно-сентиментальные, слабые с художественной точки… А он еще положил мне эти стихотворения на голову, как бы книга-домик, книга-крыша… говорит, это я на Нашмаркте для тебя специально нашел… – Насладись! а у меня еще роза для него спрятана на тело… впилась шипами прямо под солнечное сплетение… – Насладись!? Так ты, что, так меня и будешь мучить от Дня рождения до Дня рождения? И жизнь среди этих роз будет вечным садомазохистским наслаждением? Среди безголовых соловьев из книжек с Нашмаркта, среди этих заливающихся в экстатических трелях ацефалов? И я вытащила свою розу, как котенка, вцепившегося в меня хищными когтями, и выбросила с лестницы вниз. Я слышала, как она разбилась вдребезги о мраморный пол. И стала рвать книжку о любви на мелкие кусочки, и бросать, и они тоже разбивались, как хрусталь, и он тоже стал ее рвать, смеясь, смеясь. Потом склонился, прошептал: «Это антигешенк! Это книга о чужой любви! Разве я не знаю, что наша Книга – другая!»
- Только то, что мы сидели на лестнице современного музея, где шастают туристы, удержало нас от сбрасывания одежды…
- А я решила, было, в этот день пойти на могилу его бабушки в Хитцинге (которую он любит больше всех на свете) и выпить там бутылку русской водки, читая ей стихи Борхеса. Ведь его бабушка – это первопричина всего.
- (Он любит рассказывать, как его сотворили. Дедушка был игрок – карты, штосс, империал, рулетка на нечетное – но не всегда удачно… И вдруг – роковое стечение чисел: 7 –13-27! Он выигрывает! Тут же, не отходя от казино, он покупает у проигравшегося отца семейства машину (пусть это будет «дьюик») – и с шарфом на отлете, в пышных усах, едет по сонным улочкам Вены. И идет девушка по Вене. – Мадмуазель, пожалуйте в авто! Она садится, они несутся в Венский Лес – и в этом Лесу, покрытом белыми грибами, сыроежками, зайцами, оленями, дикими кабанами – зачинают на сидениях счастливо Карла!)
- И вот, в тот День рождения я прорыдала 8 часов. Я пригласила уличных музыкантов. Они меня ждали у Фолькстеатра два часа под дождем, накрывшись инструментами. Ждал брат, ждал муж. Я пришла и говорю: отвезите меня на Хитцингское кладбище, мне очень надо на Хитцингское кладбище (водку я уже выпила до капли), музыкантов тоже возьмем, пусть они играют звуками рока на маленьком Хитцингском кладбище, еще нищенок насобираем, пусть и они поют… – Что с тобой? Что с тобой? Какое кладбище? Тебе же сегодня День рождение! – Ну, тогда, отвезите меня в Венский Лес, где желуди, где пасутся ушастые зайцы! Где тявкает сова!
- Они бессердечные, они, наверное, хотели бы отвезти меня в Хюттельдорф – чтобы в самом лучшем центе венской психиатрии… но меня сморил сон и вот что я увидела:
- (………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
вдруг………………………………….)
- Красное море красные розы … нет, по-русски это не так звучит… как должно.
- Ротен розен роте зее роте инзель роте меер
- ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………- – Ты гемлехтлос, - говорю я, - ты бесполый! (бессердечный).
- – Ладно, я не герой. Если тебе нужен Герой, тебе нужно искать другого человека.
- Так он отвечает, когда я прошу его просто о каких-нибудь пустяках: «сегодня пойдем в кино?» – Нет, Лана, сегодня я не Герой, сегодня я дома.
- И я нашла могилу его бабушки, когда он был в Швейцарии. Долго искала. Ведь стольких бабушек унесла смерть на своих мощных черных крыльях! И надгробие такое черное, мраморный обелиск, имена поколений. А, так его дед тоже Карл, министерский советник. И вдруг подумалось: как же измельчал мой Карл за прошедшее столетие… ведь его дед писался через С – САRL – т.е. ЦАРЛ – ЦАРЬ – КОРОЛЬ, а Карл сегодняшний – уже через К. Дух высокого, царского потихоньку выветривается… совсем выветрится… плющ… все зарастет этим мелким плющом…
- А ведь наверняка Карл будет похоронен в этой наследной могиле, поверх барона. Нет, для меня уже места здесь не будет. Не надо. Я сказала ему: когда я умру (погибну на сцене), отвези мое грешное тело в печь, раздели золу на три части: одну часть рассыпь по страницам своих книг, другую – носи в кулоне (и смотри, чтобы тебя похоронили вместе с кулоном), третью – предай ветру на тех островах, где мы с тобой были, на том побережье, где стоит одинокий домик Гала. (С сюрреализмом я чувствую «неразрывную смертную связь»).
- Но есть еще один вариант (получше, потому что не такой инфернальный, не такой мрачный – ведь это зола полетит по ветру легко и свободно, а я-то так и останусь внутри этих песчинок золы): он согласился, но мы все никак не можем дойти до нотариуса, чтобы он официально оформил сделку:
- «Поклянись, Карл, водами Леты, именем бабушки, что через 25 лет, когда ты будешь ездить на инвалидной коляске и ничего не видеть, ты поступишь в мое полное распоряжение – безвозвратно, безраздельно, беспрекословно – и тогда мы поедем на Майорку, в Чили, по всему свету – и я буду тебе рассказывать обо всем том, что ты не видишь, кормить тебя крабами, устрицами, угрями, креветками, морскими водорослями, читать тебе вслух, укрывать тебя пледом, взбивать подушку, играть тебе на скрипке, подстригать ногти, выщипывать из носа волосы, мыть голову шампунем, водить твоей рукой, когда тебе захочется рисовать…»
- Но под разными предлогами Карл уходит… не хочет думать о будущем.
- О, если бы я верила в загробную жизнь внутри церкви! Все было бы проще: монастырь в Сардинии, истовая вера, нечеловеческое смирение и как награда – воссоединение в бесконечности вечности! (У меня подруга в монастыре). Но он ведь тоже не верит в посмертное ни в одной из конфессий. Нет шансов на Потом.
- Но нам нравятся храмы, мы всегда в них заходим, молимся. Вдруг луч света падает как раз на то место, где я стою на коленях. Чувство восхищения! Это Он меня восхитил. Почему?.. И тут вместо молитвы я начинаю читать Паула Целана «Господь, молись к нам». И «Ничью розу».
- «Ни кто это сделал,
- А кто дал, чтобы
- Это случилось?»
- (А ведь я два месяца жила в монастыре! И не в простом монастыре – в мужском! Это отдельная история, о ней – чуть ниже… Монахи заходили в келью и вдруг видят – женщину! Убегали, крестясь).
- Я говорю: разве вы не знаете о существовании параллельной религии – называется «карлизм», просто карлизм, без кавычек.
- Карл уже давно ее проповедует (это я говорю его старым друзьям). Они страшно удивлены, поражены: да, да, это похоже на Карла… он же мистик… он же много лет провел в США, занимался там философией («потоком сознания»), ну, и, конечно, увлекся тайной магией «карлизма». А мы и не знали!
- У его друзей я много чего выведала про Карла.
- Они жили с художницей на греческом острове, в доме, который принадлежал американскому пилоту (одному из двух, тому, который сошел с ума, сбросив бомбу на Нагасаки; тот, который сбросил на Хиросиму, тоже был не в своем уме – солдат смерти). Они любили друг друга, а на камине стоял череп того сумасшедшего пилота, Карл брал его в руку… заговаривал с ним… но что-то было мерзкое в этом доме, тяжеловесное… череп был ужасно тяжелый, хоть внутри него ничего не было… а, казалось, все жители Нагасаки решили поселиться в нем… А, возможно, это Карл такой впечатлительный: всегда нагружает смыслами как бы бессмысленные вещи: это внешне он выглядит как просто Карл, а внутри – это машина ассоциаций, перпетуум мобиле ассоциассион!
- Вот полюбуйтесь на его записную книжку (лето 2003) – взяла без спросу, потому что он мог бы не разрешить (ведь он не знает, что я хочу поведать его свету. Ясный почерк, ни единой помарки, с немецкого: «……………………………………..»
- Как видно, в Америке он учился не только искусству философии, но и актерскому мастерству. Записная книжка для него – это сцена, где разыгрывается драма мышления. «Как мужчина может найти единственную женщину, когда он ведет двойную жизнь?» «Этика не продукции, а рецепции»…
- В 30 лет он хотел покончить самоубийством (два его друга уже покончили до него, развязали все узлы). Он приехал на край пропасти, поставил себя на кромку скалы… Что удержало его от последнего шага? Я теряюсь в догадках, нет надежной версии. Может быть, любовь (бабушка тогда еще была жива). Или он представил себе себя обезображенным, покрытым ссадинами, со свалявшимися волосами. Таким ли его представляла бабушка? Совершенно наоборот. Тогда он, наверное, подумал: лучше быть успешным, здоровым и знаменитым злодеем-негодяем, чем тихим добропорядочно скучным камнем с надписью «здесь успел Herr Karl» - «взгляни – и мимо».
- Зато теперь он любит повторять: жизнь коротка – а дела множатся, как в английском замке привидения!
- Так вот, как я ревела на протяжении 12 часов: это было в Черновцах (Украина): я выиграла поездку в Америку – ездила в Киев на конкурс английского ( в принципе, я же гений-полиглот, так устроена голова, спасибо родителям, которые все детство и юность держали меня в ежовых рукавицах; отца, правда, не было как бы изначально). И вот я возвращаюсь с конкурса, трое суток не спала, тут приходит моя подруга (только что из больницы – упала с седьмого (7-го) этажа и, надо же! ни царапинки – перепутала двери) – и мы обмениваемся впечатлениями от этой странной жизни, полной нелепых авантюр. А мне мать и говорит: сегодня твоя очередь идти за молоком на ферму, вчера ходил брат. – Так пусть он еще сходит, я за него потом три раза схожу. – Нет, теперь твоя очередь, ступай. – Но я же выиграла сложнейший конкурс, только что с дороги! – Гутарить можешь, а как за молоком – так из Киева приехала! Нет уж, моё голубе, не отнекаешься! Вот тебе бидон, а вот порог!
- Я шла по осенней украинской дороге, расползающейся под сапогом, как жидкий труп, и ревела на всю Украйну, на всю бездольную степь, что этот мировой порядок не может понять меня, сделать малейшей уступки, пойти в исключительном случае навстречу своему же собственному ребенку, своей крошечной девочке с большим печальным будущим, своей надежде, своему лучу света в несусветном царстве Черновцов!
- На 13-м часу я решила: все, с меня довольно, пора удирать!
- Тогда-то я и познакомилась с отцом Демьяном.
- Или это было год спустя? Не важно.
- Он приехал по делу захоронения мощей Патриарха Украинской Церкви Преподобного Маэстро Слепого. Да, тогда я уже училась в Университете, первый курс немецкого. Мы вместе едим мороженое, пьем пиво. Он говорит: когда мы в миру по разным хозяйственным надобностям (например, как сейчас с миссией перезахоронения святых останков) на нас не действуют все эти инкубулы, и поелику мы светские люди, пиво пьем, любим мороженое. Он войну прошел. На войне дал зарок: если пуля минует, если штык не возьмет – уйду служить Господу, как победим. Так и случилось. И вот с ним мы проехали 12 стран Европы, 2 месяца жила в монастыре в качестве переводчика с украинского на немецкий и обратно. Это в монастырь гуманитарная помощь пришла от немцев – я переводила как что называется, как этим пользоваться… По вечерам мы катались с отцом Демьяном на монастырской лодке по монастырской части озера (мне приходилось лежать на дне, чтобы не увидали бабы, полощущие белье на том берегу, как их монах катает переводчицу в мини-юбке) –
- Но мы отвлеклись от религии карлизма.
- Культ. Религия без культа, без культуры поклонения невозможна. Ведь верующий видит глазами, слышит ушами, обоняет ноздрями, сталкивается с тактильностью кожей тела. С чем он сталкивается? Скажем точно: с таким же носителем религиозного опыта. Когда мы обмениваемся касаниями – это обмен границами, за которыми – всегда «никогда», всегда «ничто», всегда – «только внутреннее». Как хорошо, что есть слова, носители «внутреннего опыта» – ведь только язык не сопряжен с чувственностью чувств тела: будучи «телом» – язык как материя мяса – язык совершает кульбиты, способные проникнуть через тяжесть и плотность мяса языка – и резвиться в чистом поле идеальностей, дальность которых вдруг становится так реально близка. Карл, ты есть (вот, оно, схватывание) моя Буква. Помимо Буквы (во время, когда время длится, не имея нужды придти к завершенью), нет ничего. Только имя. Имя, начертанное. Имя подчеркнутое. Карл.
- Ну, же, ответь мне.
- – Ихь либе дихь, ту фершейнст михь?
- – А я сейчас в машине, в «ролс-ройсе»!
- – Прекрасно.
- Но через пять минут: «Какого черта! Чей?»
- Ага! Задело за живое.
- На его День рождения (сентябрь, совсем бархатный сезон, совсем индейское лето, Швейцария, он ставит спектакль – его сценарий!) я появляюсь в Швейцарии с подарками. Подарки не простые. В его записной книжке я нашла его абстрактный автопортрет:
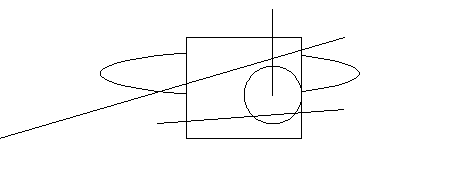
Как видим, мой Карл очень запутанная личность и черт те что о себе воображает. И я перерисовала этот автопортрет на холсте, у художницы в мастерской, рисовала неделю, все не получалась, как у него, закрашивала белым и рисовала опять, извела у художницы все краски, все белила, толщина слоя была уже четыре сантиметра и вдруг – вот оно! Рука Карла! И я – художник! Подруга слезла с лестницы ( у нее большие росписи, под классицистов-маньеристов, костюмированная эротика), вытерла руки о рабочую тряпку, прищурилась: «Ну, Лана, круто!» – заслуженная похвала мастера! И с этой копией я приехала в Швейцарию. И была еще кассета с итальянской песней (романсом-арией), помните, пел Лючано Паваротти: «Мама, я тебя никогда не забуду, ты самая красивая песня!» – прекрасный голос, полный тоски о страсти – так глубоко и чисто могут петь только итальянцы… но я переменила слова: «Карл, я тебя никогда не забуду, ты самая красивая песня!» – и попросила это исполнить оперного певца, моего знакомого из Киевской консерватории, случившегося здесь с ангажементом, – и эти подарки (присовокупляя поцелуи и цветы) и были преподнесены моему возлюбленному сценаристу на могиле Канекки и Джойса.
- Карл плакал: такие Дни рождения у меня были только в детстве – волшебные… как проза ... «Улисса»…
- Я определенно начинаю оказывать на него положительное влияние: он начал ч у в с т в о в а т ь, что для мужчины в наш компьютерный век – парадокс.
- – Тебе надо уезжать, – задумчиво говорит Карл. – Завтра у меня премьера.
- – Разве я не могу постоять на галерке, поболеть за пьесу?
- – Нет, нет, это невозможно! Моя пьеса… видишь ли…
- – Но я еще не видела ни одну твою пьесу.
- – Это моя первая настоящая пьеса.
- – Тем более.
- – Я хиромант, я суеверен….
- – Это будет мистика о Баденском озере?
- – Нет, но ты можешь ее… сглазить… или выскочить на сцену…
- – Клянусь, что нет.
- – Понимаешь, – тут он, кажется, обрел твердость. – Сцена – сцена. Закулисье – закулисье. Нельзя, чтобы во время Музыки звонил мобильный телефон. Это закон. Что это будет, если у дирижера из-под фрака будут торчать трусы – безразлично какие: синие сатиновые или шелковые в горошек; это скандал, потеря лица. Здесь артистическая жизнь еще придерживается самых строгих правил, общество никогда не простит любой небрежности, не говоря о фривольности. Ну, что скажет шеф, когда тебя увидит под вуалью на фуршете? Наш уважаемый сценарист возит в чемодане фаворитку!
- Но обидеть меня не так просто, как это ему, может быть, кажется.
- – Прекрасно! – сказала я. – Тогда женись на мне.
- – Лана, это же закрытая тема: ты же клялась мне, что не будешь убивать себя и не будешь заставлять меня жениться при живой жене.
- И тут у меня мелькнула, как пишет Достоевский, «некоторая мысль»…
- Где же это случилось? Когда? Как случайно? Случайно ли? Бывает ли так? Как это стало возможно?
2
-
- Мы расстались на вокзале: никто не ехал в это утро в Вену, кроме меня. Перед отходом поезда, похожем в отсутствии пассажиров на Летучего Голландца (призраком-капитаном, очевидно, должна была быть я), он подарил – впервые за все время нашего знакомства – подарок: плюшевого тигра с физиономией философа-вегетарианца, с заплатами на морде и на спине.
- – Ты же мне никогда не дарил подарков, Карл.
- – Неужели?
- – Совершенно точно.
- И он убежал за тигром (это был лев).
- В поезде я нарисовала лаком для ногтей на нем устрашающие полоски (приобретенный художественный опыт теперь уж никогда не пропадет даром).
- Смотря на мирные равнины, на сиреневые дальние склоны предгорий, на всю эту идиллическую умильную руссоистику, где нет места извращениям, обманам и сарказмам просвещения, мне вдруг представилось, что вон в том доме с выбеленными стенами и красной крышей, из трубы которой идет кроткий дым, живем мы с Карлом, уже седые, он в валенках несет вязанку хвороста на своих все еще молодых плечах, я киваю ему из окна головой, читая его последнюю бессмертную пьесу… Да, жена, жена… Нужно ее соблазнить… мы будем жить втроем… как Маяковские, как Бунины, как Пастернаки…
- Совсем недавно, в летнем одиночестве, – история. Познакомилась с аристократической парой, писатели, чудные люди, богатый дом, красавцы, камин. Оставили переночевать. Но в полночь, лишь пробили старинные часы 13 раз (я не ослышалась?), входят ко мне босые: он в узорчатом халате, на горле шарф бантом, она в короткой газовой рубашке, под рубашкой – ничего… очень эротично, конечно… присаживаются на край кровати… тянут руки… Ах, сказала я, волшебные чудотворцы, материализуйте мне сюда Карла, чтобы нам всем поровну испытать несказанность группового секса! Кажется, они бы сделали для меня все, но только сознались, что не имеют пока что власти над материей.
- А через несколько дней меня познакомили с Художником: и тоже дом на холмах, виртуозный фотографический модерн, гений, куча золота. Через шесть часов говорит: брошу все, увезу тебя на остров Италии, да или нет? И ласково раздевает. Он разденет, а я оденусь: да или нет? И тут я вижу на стене фотографию – того самого итальянского острова, на котором мы были с Карлом. Бирюзовые волны, опаловые скалы, теплый, соленый средиземноморский ветер, как бы чуть-чуть пахнущий порохом (это от Карла, от его сандалий, сушившихся всю ночь у костра). И я начинаю плакать, рыдать на широкой груди Художника. – Брат мой, обними меня, как сестру, как безутешного младшего брата! Обнял как сестру, как безутешного брата, понурив голову пораженного своею же стрелой херувима.
- Или: трое детей, прочнейший бытийный статус, трудоголик, атеист, человек-скала, возможно, экономический разведчик в пользу Бразилии или Англии – и тот: «Будь женой, умоляю!»
- А когда ехала из аэропорта до дома, пока шла через Вену, со мной хотели познакомиться 32 человека, из них 2 женщины – и все хотели меня, алкали, оставляли телефоны (другие дни тоже не исключение: находила в сумочке по 17 телефонов)
- А Карл, видите ли
- В Цюрихе даже не встретил, опоздал на 23 минуты. Ночь. Этот голодный рыбий жир чужих фонарей. Я с чемоданом, под вуалью. В шляпке от Альфриды Гейстер, в колготах с розочками. Телефон молчит, как мертвый партизан. Нет, нет на свете счастья больше… нет на свете счастья больше, чем увидеть его, залитого рыбьим жиром света цюрихьских фонарей на том конце платформы, маленького, совсем крошечного, как в немецкой народной сказке, умещающегося в спичечный коробок. Кино: здесь заклинивает пленка, свидетельствующая лишь о его смятении и стремлении навстречу. Вот он вырос (через мгновение вечности), склонился вежливым джентльменом. – Представь, цветов нигде нет (в стране цветов). Вот, еле нашел. Я ни слова. Молчок. Беру чемодан (он же не поможет, он любит, чтобы я была самостоятельной), качу чемодан по перрону. Сворачиваю в кофейню, показываю жестом на пончик. Беру пончик, мы идем дальше. В гостиницу. Он говорит красивые слова о красивом, но я играю только жестом в жест… в жестокость (когда-нибудь я, конечно, сойду с ума назло ему и его Арто). Через 23 минуты, в гостинице (опять «Очарованные охотники» - «Цаубер ягер») я говорю ему: «А, халё! Привет! Спасибо тебе за цветок, я засушу его, чтобы он о нас помнил!» И вот – словно не было дороги, я словно в эту секунду приехала, и благодаря де арте мы сразу же оказались на кровати.
- И вот сегодня он от меня отрекся, как Петр.
- Я должна оставаться в тени, за кулисами, во тьме кулис, вообще – вне кулис, по ту сторону его жизни на свету.
- Я должна быть тенью его тени, никогда не отбрасывая собственную тень.
- Это, кажется, и называлось «жизнь в аду».
- Ну, ничего, Петр, то есть, Карлуша, твоя тень будет преследовать тебя вечно. Вечно. В е ч н о.
- Мы расстались на вокзале: никто не ехал в это утро в Вену, кроме меня. Перед отходом поезда, похожем в отсутствии пассажиров на Летучего Голландца (призраком-капитаном, очевидно, должна была быть я), он подарил – впервые за все время нашего знакомства – подарок: плюшевого тигра с физиономией философа-вегетарианца, с заплатами на морде и на спине.
3
-
- Говорю об этом Карлу, когда мы договорились встретиться на пустыре, возле его дома: он вышел на 15 минут якобы за сигаретами. Я стою посреди пустыря, заросшего лебедой, пастернаком, какой-то могучей былью, на месте снесенного дома, который не мог снести всех своих накопившихся за столетия тайн, неразрешимостей и преступлений – как прекрасное пугало, в бантах, с косами, раскинув руки на Запад и Восток, обнимая пустоту пустыря, эту фатаморгану, этот фантом, этот неизбежный футурум жизни.
- – Что это ты?
- – Тише… я слушаю свое сердце. Послушай.
- – Ла, у нас всего 15 минут.
- – Я хочу с ней познакомиться.
- – С кем?
- – С Марией.
- – Нет.
- – Мы будем жить втроем, я буду приносить в дом кусок хлеба.
- – Нет.
- – Я буду ее ласкать вместо тебя, когда ты спишь, когда ты уезжаешь, когда ты ей изменяешь.
- – Это невозможно.
- – Я буду ей петь песни, когда ей грустно, играть на лире.
- – У нее есть СD.
- – Я буду учить уроки с ее дочерью, заниматься с ней английским...
- – Ее дочь уже давно замужем. Ей хорошо и без английского.
- – Я буду читать ей на русском Достоевского.
- – Она уже читала на немецком.
- – Тогда Гоголя на украинском.
- – Она его перечитывает на французском.
- – Я буду убирать пыль, мыть окна, подавать за столом.
- – Она ненавидит рабство.
- – Она будет делиться со мной своими горестями, мы будем вместе тебя ненавидеть.
- – Очень интересно. Тогда мне придется искать другую Лану, убегать от вас на пустырь, нагло обманывая, что я пошел за сигаретами, тогда как дома у нас уже целый арсенал сигарет.
- – Я согласна.
- – Что ты согласна?
- – Чтобы ты убегал от нас на пустырь, а мы бы ждали тебя и плакали.
- – Но мы же живем не в Саудовской Аравии, у нас не ЮАР, мы в католической Австрии среди готических соборов, Иесус Христос и Ликург завещали нам моногамную семью.
- – Хорошо, у тебя же связи, попроси, чтобы Шредер с Клейстелем изменили законодательство, узаконили многоженство для страждущих и жаждущих, ведь Европа уже давно под властью турков.
- – Разве?
- – А ты не заметил?
- – Хорошо, я поговорю с канцлером.
- – Когда?
- – На днях.
- – Поторопись.
- – Хорошо.
- – А то твоей единственной жене грозит опасность.
- – В каком смысле?
- – Она может не дожить до принятия закона.
- – Да, но такие радикальные законы готовятся тысячелетиями.
- – Тем хуже для единственных жен и тысячелетий.
- – Что ты задумала?
- – Апельсины.
- – Какие апельсины?
- – Испанские.
- – Так.
- – Она вчера покупала в BILLE испанские апельсины?
- – Ты, что, шпионишь за ней? Ну? Что в апельсинах?
- – Мышьяк.
- – Ха-ха. Она уже ела вчера эти апельсины.
- – Только в одном. Вот шприц.
- Он быстро набрал номер:
- – Мария, здесь закрыто. Слушай, там у тебя в вазочке апельсины, ты пока их не трогай, да, ни единого, они мне будут нужны, да, для перформанса, для видео, да, да, балет с апельсинами, с элементами жонглирования, не ешь ни одного, я знаю там их сколько, да, да, жди, целую.
- – Видишь, как ты ее любишь.
- – Конечно… Слушай, ты, конечно, великая актриса и обыграешь, кого хочешь, но иногда, прости меня, ты слишком уж заигрываешься… и не отдаешь себе отчета. Эти апельсины… Ну, представь себе: кто-нибудь бы узнал о твоих намерениях, о твоих шантажистских угрозах (пусть это даже шутка), на тебя бы донесли, схватили, судили, посадили на месяц и вот – такая сцена: ты за решеткой в деревянных ботинках, стриженая, в полосатой тужурке! Ну, разве это красиво? Ты же современный модный умный человек!
- – На один месяц? В полосатой тужурке? Это стильно. Почему – нет? Мы сделаем фотографии, продадим журналу MOND. Ты мне будешь носить передачки.
- – Господи, Роксолана! Ты обо мне подумала? За тебя еще посадят и меня, что не углядел, что в сговоре…
- – Вот! Я всегда мечтала сидеть с тобой пожизненно в одной камере, Карл. На одном электрическом стуле.
- Говорю об этом Карлу, когда мы договорились встретиться на пустыре, возле его дома: он вышел на 15 минут якобы за сигаретами. Я стою посреди пустыря, заросшего лебедой, пастернаком, какой-то могучей былью, на месте снесенного дома, который не мог снести всех своих накопившихся за столетия тайн, неразрешимостей и преступлений – как прекрасное пугало, в бантах, с косами, раскинув руки на Запад и Восток, обнимая пустоту пустыря, эту фатаморгану, этот фантом, этот неизбежный футурум жизни.
4
-
- «искусство есть не то, что ты требуешь от другого, а то, что ты от него не требуешь» – так мне сказал однажды Карл в туалете, где мы занимались любовью, в одном из крыльев кайзеровского дворца, где сейчас Главный Венский Архив Национальной Библиотеки, туалет был со значком «для инвалидов». Да, я должна помнить эти слова. И если моя поэзия до него не доходит – к нему не доходит – к самому родному человеку – не доходит – и он не ценит – пиши, думаю я, для себя, пиши для себя – не думай…
- У меня есть дурацкая идея: написать Хандке: пусть Хандке напишет Карлу, пусть он как авангардист духа ему напишет, Хандке, который много страдал…
- А еще подмывает написать ЭМС (электронное сообщение в одну из ветреных ноябрьских ночей, когда у него будет грипп и раскалываться голова, и высокая температура +45): «Я в постели с Рильке» или «Я в кровати с Францем Мэллем».
- А однажды в баре я попросила написать старого поэта послание. Он не отказал и сочинил нечто резкое под Гинсбурга. Карл перепугался: «твое общение со мной делает из тебя изощренного казуиста, я боюсь тебя, как наверно боялся бы себя»»
- Тогда, на пустыре, он впервые избил меня, как говорят – «поднял руку». Легонько ударил по щеке (ему, наверное, не понравился «электрический стул»), мол, красавица, приди в себя, явись в объективную реальность. Я – ничего, подставила ему другую щеку. Он, не долго думая, не сумняшеся, огрел меня и по другой. Я только улыбаюсь. И он начал хлестать меня с двух рук, как ветряная мельница: «опомнись, опомнись!» А я стою и слушаю, как в голове у меня стоит звон. Он первый и опомнился: «Лана, Ланочка, тебе разве не больно?» – Больно? – тут мне уже совсем стало смешно. – Карл, ну что ты знаешь о Боли? И я пошла, как чучело, через пустырь, держа руки врозь, с горящими щеками, со звоном в ушах. Конечно, мне было «больно».
- Здесь можно объяснить некоторые мотивы моего поведения. Т.е. просветить читателя. Дело в том, что я досталась своему мужу девственницей (да он и сам был девственником – что еще более непростительно) – и я думала до 21 года, что это так и надо, что хранить девственность мой святой долг и, если можно так выразиться, моя главная творческая задача. Но как это все обернулось против меня! Мой муж настолько добр, что даже он на протяжение двух лет не смог лишить меня главного атрибута детства, христианского символа чистоты, верности и поэзии. Мне было больно, а он не мог мне причинить «боль». Он ведь тоже христианин (католик) – будь проклято это ваше христианское католичество! И я, наконец, пошла в сексшоп, купила заводной искусственный член и с помощью этого бездуховного, бездушного, не сомневающегося и не ведающего ни страха, ни стыда члена – через новую боль, отчаяние и проклятия – лишила девственности сама себя. Но скажем полнее: все-таки не без некоторого удовольствия… нет, с некоторым превеликим, огромным, неописуемым удовольствием! С Христианством – во всех его обличьях – наконец, было покончено.
- С тех пор я хорошо понимаю слова Ницше «Бог мертв», а также это «достоевскиймо бегущей тучи и пушкиноты дремлющего полдня» – «убить в себе Бога» – ха-ха!
- И тогда, конечно, начались сожаления, угрызения совести (помилуй бог, не от своеволия), напротив, что я не прислушалась к себе раньше, например тогда, когда влюбилась в учителя танцев – ведь это была классика! – и вот он однажды весной отвел меня в подвал – такой сильный, сексапильный, нарцисстичный, живой, прекрасный, как вся древняя греция – и сказал мне, усадив меня в квадрат солнечного света: Роксолана, будьте моей любовницей… Он уговаривал, гладил руки и грудь своими божественными руками, говорил, говорил, умолял четыре часа… пока не ушло солнце… а когда стемнело, я сказала: «нет»… но как мне тогда хотелось б ы т ь е г о л ю б о в н и ц е й.
- Через два года (это уже как в сказке: ну, что такое два года для мифа, в котором времени не считают) я прихожу во дворец Кузнецова, у него сейчас выступление с труппой, иду за кулисы, вызываю его, он идет ко мне своей танцевальной походкой, в белых рейтузах на мускулистых ногах: «Я слушаю, Вас, Роксолана».
- – Я согласна.
- – Простите?
- – Я согласна быть вашей любовницей.
- Он на минуту задумался.
- – Я понимаю, что тебе пришлось преодолеть, чтобы придти к этому непростому решению. Очень понимаю. Два года внутренней борьбы, раздумий… Да… Знаешь, давай мы и дальше последуем этой внутренней логике (хотя никакой логики, кроме, может быть, танцевальной на свете нет) – и никогда не будем любовниками. Никогда.
- Вот такой вот, девочки, урок.
- …он был таким теплым, таким изысканным, его плавность движений, его волшебные поцелуи в волосы… все потеряно – навсегда… Каркнул ворон: «NEWERMORE!»
- Теперь читателю несколько прояснено мое особое отношение к фигуре Карла.
- И к танцам.
- Когда в первое время замужества я танцевала в лесу, мужнина мать мне говорит своим католическим голосом: «У нас в лесу не танцуют, милая!»
- Не танцуют. В лесу не танцуют. Что же это за лес такой? Куда я попала! Вена, между нами, это действительно какое-то странное, заколдованное каким-то злым колдуном место. Нет! я вас, сморчков, расколдую!
- Но это, может, просто мне не повезло в жизни с жизнью. Бог ведь не спрашивал меня, хочу ли я быть человеком среди людей. А мне бы больше подошло быть коралловым островом, архипелагом с полосатыми рыбами, на Полюсе тюленем.
- А я, как собака. В общем-то я давно уже олицетворяю себя с собакой (написала пьесу в лесу, в Тироле, когда ехала от Карла и вышла на станции, углубилась в лес, где муравьи… называется пьеса «Человек» – такое маяковское название, где речь идет о перипетиях становления собаки, которая никак не хочет становится человеком – антипарафраз булгаковского Шарика. А также воспоминания из детства: мать меня никогда не понимала:
- – А ну, зараза, иди мыть посуду! А ну, пиздуй! (страшно вспомнить).
- А бубушка: «Ну, что ты тут занимаешься незнамо чем (читаю), все равно министром не будешь!»
- И даже не понятно: в них ли нет ничего человеческого или во мне?
- И Карл иногда тоже понукает (но это другое): «Лана, сидеть!»
- Но эта пьеса, блин, зависла в компьютере – остроумнейшая вещь.
- А когда только познакомились с Карлом, Карл вдруг брякнул:
- – А ты разве не знала, что я известный.
- – Нет, не знала.
- – Гм… Но я ведь всем известный, да.
- Я люблю его манию величия, его тщательно скрываемый комплекс неполноценности, его сомнения, его слабость – в этом есть внутренняя свобода, возможность быть другим, готовность к сущностным метаморфозам. Потому что я ненавижу типичные образцы, правила, косность, вообще испытываю идиосинкразию к нетворческим началам. И Карл тоже любит меня, когда я самая завистливая, злая, недобрая, циничная. Это его возбуждает. Скажу более – о механизме его эроса – он подталкиваем меня к тому, чтобы я ему изменила: с кем-нибудь переспала. Тут может быть много психоаналитических мотиваций (этим мы еще займемся). А так же заставляет рассказывать меня всякие небылицы, как э т о было с др. мужчинами. Я, конечно, не жалею красок.
- Вчера, говорю, познакомилась в баре на Грундштайнгассе с двумя импозантными мужчинами еврейской национальности…
- – Подожди, а презервативы ты взяла?
- – В том-то и дело, Карл, что з а б ы л а!
- – Нет, Лана, я предчувствую, что это будет мучительная история, с фашистским душком, расскажи лучше другую, про итальянцев.
- (все эти порнографические веселые картинки читай в приложении русского издания, т.к. в немецкоязычных и итальянских изданиях они все равно не пройдут негласную редакторскую цензуру)
- …и Карл возбуждается, как собака Баскервилей.
- «искусство есть не то, что ты требуешь от другого, а то, что ты от него не требуешь» – так мне сказал однажды Карл в туалете, где мы занимались любовью, в одном из крыльев кайзеровского дворца, где сейчас Главный Венский Архив Национальной Библиотеки, туалет был со значком «для инвалидов». Да, я должна помнить эти слова. И если моя поэзия до него не доходит – к нему не доходит – к самому родному человеку – не доходит – и он не ценит – пиши, думаю я, для себя, пиши для себя – не думай…
5
-
- Два дня назад приехала моя подруга из Австралии (лучшая подруга), и я познакомила ее с Карлом и показала набросок этой повести. Поделилась. Она сказала мне две жутких вещи (у меня до сих пор шок и озноб… пришла домой, в доме пусто, только не воет ветер… ну, да я сама заместо ветра… может быть, напиться? И спиртное все выпито – это секретарь мой выпил, стенографист, начинающий алкоголик из России, мыкающий тут свое горе – про него мы еще скажем несколько ехидных слов). Она сказала: ты с ума сошла, Роксолана! И ты надеешься соблазнить Карла своей писаниной? Этой вульгарной письменностью из сибири? Карл тебе не простит, мужчина никогда не потерпит, чтобы женщина снимала с него покровы безнаказанно, выставляла голым в раму. Ты же знаешь сама, до каких внутренних чертиков он раним: ты же извне на него смотришь, а он смотрит на себя изнутри – огромная разница: сначала он видит свои нервы, свои кровеносные сосуды, мясо, подкожный жир, слизистую оболочку, кожу, поры, волосы в порах, очки, свою ауру, свои следы, пространство, историю, мотивации, будущее и – дальше – цели. Цели обнаруживаются лишь в последнюю очередь, если вообще когда-нибудь ясно обнаруживаются. Ты для него и есть такая нечеткая, как бы скрытая цель. Этим и привлекательна, этим интересна; ты таишь Соблазн – могучую силу притяжения, гормон роста, нуклеиновую кислоту творческого вдохновения.
- И вот ты вдруг высказываешься! Обнаруживаешь себя как слово, которое не выжжешь потом каленым топором. Вытесываешь каменное надгробие, скрижаль завета, берестяную грамоту, по которой, возможно, будут учиться новые девочки из Новгорода. Как на тебя после этого должен смотреть Карл? Как на предателя, обманщицу, лазутчика и шпиона, которого, наконец, застукали с его шифровками. Ведь что обнаруживается: оказывается, будучи ему преданной, лежа с ним в постели отеля «Три разбойника» (или как там, «Муаровый паук»?) ты на самом деле оказывалась этим беспардонным пауком, предавала его, под покровом нежности выпытывая у него его экзистентные тайны. Я ничего не говорю о стиле, это дело вкуса (но на его капризный вкус все равно не угодить: он же сам писатель и уж, наверное, поталантливее тебя, ну, или так считает; они же могут читать только себя; и вдруг ты выходишь на его поле… элементарная ревность – этот вечный страх быть ввергнутым в ничтожность соперником (ведь Карл, в сущности, слабый человек и понимает, что и на Карла когда-нибудь найдется свой карленок) – и вот ты вдруг одариваешь его книжкой по голове! Не то, что целоваться. Я бы тебе, мой нежный ласковый друг, руки не протянула.
- Я позвонила секретарю, чтобы поделиться этим критическим отзывом, но его жена Инга сказала с некоторым злорадным откровением, что секретарь пьет и вернется вверх ногами, если вообще соизволит сегодня вернуться.
- Но отзыв, это еще полбеды, просто надо быть аккуратнее, корректнее, половину вычеркнуть, сделать толстовскую правку… Но вторая новость меня поразила более: она узнала Карла! Оказывается, когда-то, лет шесть назад Карл приглашал мою Ольгу в ресторан, кормил ее, платил и оставил свой телефон: мол, позвоните мне обязательно, Ольга Анатольевна. Наверное, и он должен был ее узнать, но не подал виду. Но как могло это произойти? Очень странное совпадение. И словно какое-то дуновение как бы от сверкнувшей за спиной молнии судьбы. Ведь могло бы быть и так, что я сейчас сидела бы на ее месте, а она бы – на моем. Если бы… и, как еще раз широкая молния, мелькнула, словно разорвав карту мира, цепь причинно-следственного уравнения, где микроскопическая случайность, ничтожное вкрапление запятой способно управлять громоподобным финалом смеющегося злобной лошадью божественного Итого!
- Ольга уезжает сегодня обратно в куковскую Австралию. И Карл сегодня был какой-то не любезный: Ланочка, я весь в работе, когда-нибудь ведь я должен заниматься своей основной работой… Да, как все-таки хочется сегодня напиться… как сорок секретных секретарей.
- Включила десятисерийного «Идиота», последние три серии, и сквозь слезы училась у великого гроссмейстера безумной игре осумасшествовавшими душами. В конце доктор сказал (я, кстати, знаю этого актера), что после вашей России на Швейцарию надеяться - это форменное ребячество; уж лучше бы вы его отправили к Шумерам в Ирак: «клин клином вышибают, мадам».
- Два дня назад приехала моя подруга из Австралии (лучшая подруга), и я познакомила ее с Карлом и показала набросок этой повести. Поделилась. Она сказала мне две жутких вещи (у меня до сих пор шок и озноб… пришла домой, в доме пусто, только не воет ветер… ну, да я сама заместо ветра… может быть, напиться? И спиртное все выпито – это секретарь мой выпил, стенографист, начинающий алкоголик из России, мыкающий тут свое горе – про него мы еще скажем несколько ехидных слов). Она сказала: ты с ума сошла, Роксолана! И ты надеешься соблазнить Карла своей писаниной? Этой вульгарной письменностью из сибири? Карл тебе не простит, мужчина никогда не потерпит, чтобы женщина снимала с него покровы безнаказанно, выставляла голым в раму. Ты же знаешь сама, до каких внутренних чертиков он раним: ты же извне на него смотришь, а он смотрит на себя изнутри – огромная разница: сначала он видит свои нервы, свои кровеносные сосуды, мясо, подкожный жир, слизистую оболочку, кожу, поры, волосы в порах, очки, свою ауру, свои следы, пространство, историю, мотивации, будущее и – дальше – цели. Цели обнаруживаются лишь в последнюю очередь, если вообще когда-нибудь ясно обнаруживаются. Ты для него и есть такая нечеткая, как бы скрытая цель. Этим и привлекательна, этим интересна; ты таишь Соблазн – могучую силу притяжения, гормон роста, нуклеиновую кислоту творческого вдохновения.
7
-
- Но нет.
- Через два дня спрашиваю Карла: «Послушай, милый, расскажи о себе, о своих причудах, какой ты был маленький, о своем мировоззрении, наконец. Может быть, у тебя есть на душе какое-нибудь непоправимое преступление, роковая тайна, мрачное проклятие…»
- – Ну, а как же ты думала, Лана? Ты же видишь, как я не прост.
- – Пусть это будет такой очерк, хорошо. Автобиографический кунштюк пунктирной линией. Для возможного потомства.
- – Да, для потомства.
- Мой отец – ну, тот, который, помнишь, выиграл меня в рулетку… ну, эта история, когда на выигранное он в ту же ночь стал законным владельцем машины, моей матери и меня (еще пока в зачаточном состоянии… но, кажется, именно этот первоначальный посыл на уровне электрических полей, электромагнитных полюсов и их взаимодействий и определил всю мою психофизику, всю мою моторику и соматику. Более того, мое последующее культурное отношение с высшими силами, мой «корпус корпускулярус», мой богословский уклон. Я – нумеролог, ты прекрасно знаешь. Помнишь, когда в «Золотом скорпионе» ты считала мне пальцы, я все просил тебя пересчитать заново.
- – Ты все утверждал, что я, должно быть, ошиблась.
- – Так вот. Мне хотелось, чтобы пальцев сначала было 6, потом 7, далее 9, затем 12 и, в конце концов. 13. Это мои любимые цифры.
- – Но как же я могла так посчитать?
- – Ведь я же не смотрел, и ты могла меня обмануть… насчитать их нужное мне количество. И вот пока ты считала, я вычитал и умножал, делал вычисления… и, когда я добился в уме нужных цифр… ну, ты, конечно, помнишь, что было после…
- – (смешок) Значит, 6,7,9,12, 13.
- – Это цифры моего рождения и одновременно цифры моего отца, он на них тогда ставил… Потом я специально проверял, сдавал анализ на ДНКа, и там такие специальные хромосомы, отвечающие за некоторые жизненно важные вещи располагаются именно в этой последовательности. И вот, как ты думаешь, разве такой факт может пройти бессмысленной кометой для моего сознания? Вряд ли. Я каббалист, Лана; в этом моя роковая тайна.
- – Почему роковая?
- – А ты не догадываешься.
- – Нимало.
- – Ты моя тринадцатая возлюбленная.
- – Правда?
- – Чистая.
- – Карл, но это же невероятно! Это же черт его знает что! Это – фантастика!
- – Вот именно.
- – О, мой математик!
- – (освобождаясь от объятий) Осторожно, видишь, у какого мы стоим дома, посмотри.
- – 47.
- – А это опасное число. 12+13 дас 25+9+7+6=47! Нас здесь могут увидеть злые языки.
- – А почему сумма магических цифр дает вдруг опасность?
- – Эти числа приносят благо только по отдельности, смешение их или сочленение может вызвать катастрофу. Я проверял. Например, 6791213; если повторить их 6 791 213 раз можно рехнуться, безвозвратно… но если ты их повторишь ровно 6 791 212 маль – напротив, приумножишь способности.
- До 6 лет я не знал отца (буквально: он был заточен в итальянскую тюрьму), меня воспитывала бабушка (отсюда – такая у меня к ней любовь… что я всегда клянусь тебе ею). Она мне разрешала все… только нельзя было одному выходить на улицу. Но как истребить в ребенке любопытство. Пустая затея! Мы еще тогда жили в другом районе, в старой квартире; там стенки деревянные… и вот, когда я оставался один, я пилил перочинным ножиком одну из стенок, за которой находилась чужая квартира (оттуда доносились какие-то странные шорохи, как бы тонкой струйкой слышалась музыка)… и многодневными столярными стараниями ребенок так-таки продел свой узнический лаз… беспрецедентный переход в иной мир… в мир, в котором нас пока еще никто не ждет… и в назначенный час я пролез в ту комнату…
- – Это оказался какой-нибудь чулан?
- – Нет, напротив, это оказалась довольно обширная комната, жилая, на столе стояли чашки, чайник, даже остатки печенья; на подоконниках стояли в горшках цветы, висел градусник и прибор для измерения атмосферного давления; наблюдались вазочки, вазончики, шкатулки с нитками, пуговицами и иголками, были какие-то игрушки, книжки, шишки, пышки, мышки. Короче, все в той комнате было то же самое, в тех же тонах и в том же порядке, что и в той, откуда я только что прилез. Даже ковер на стене, который и скрыл мой проход, был идентичен с тем, который висел по эту сторону лаза. Я походил в недоумении по комнате, ничего не тронул, ничего не съел и через три минуты улез обратно… я испытал там неодолимую, погребающую под себя скуку… казалось, что если бы я здесь вдруг остался жить, это и было бы самое страшное наказание за мой дерзновенный поступок.
- Больше уж я в чужие жилища нос не совал. Только свое: свои декорации, свой антураж, свои костюмы. Вот так и возник, наверное, мой театр: из этого абсурдного переживания детства. С тех пор я боюсь удвоения, против зеркал, двойников, двойчат, против диалектики, против обратной стороны медали, против «а бабушка надвое сказала», «а что будет, если мы сделаем ровно наоборот?», или «там, за туманами»… вообще – против «других берегов» и «того света», против «ужо» и «всем вам воздастся». Жить дискретно! – вот моя философия.
- – В 6, в 7, в 9, в 12, 13?
- – От шести до семи, от семи до девяти, от двенадцати до двенадцати.
- – Слушай, я бы тоже хотела сдать анализ на хромосомы. Узнать свои числа. И мы потом сравним, подсчитаем.
- – Но учти, у тебя должен быть другой порядок, другой набор этих самых хромосом.
- – Хорошо, хорошо, Карл, ты не беспокойся; конечно, будет другой. Мы же такие с тобой одинаково-разные.
- Но нет.
8
-
- Ну, да, мы оба фантазеры. Театральные деятели. Герои драм. Опереточные герои. Герои домашнего и публичного театров. Герои мотелей. Герои островов.
- Договорились поехать в путешествие в Прагу. На два дня. Я собрала сумку, словно уезжаю в райзе на два месяца. Там было всего по чуть-чуть, но набралось. Я в кепи. Дорожный стиль. Встречаемся в метро. Карл выходит из вагона, словно собрался на концерт, без багажа. – Ах, Ланочка, ну ты сегодня просто прелесть, просто вылитая М.Дитрих! Я поняла, что излишние комплименты – это неспроста. –Что случилось? –Давай не поедем ни в какую Прагу, там дожди, сырость, ветер, да и поезд, не ровен час, сойдет с рельсов. Давай поедем куда-нибудь поближе, не в такую даль. – Но я уже настроилась, что мы пойдем в Пражский музей, будем любоваться архитектурой, дремать в поезде под стук колес. – Ну, Лана, не сочиняй, какой стук колес, ведь у нас нет на рельсах стыков… Доедем лучше до 14 района, там тишина, тоже не лишенная своеобразия архитектура, уютные гостиницы. Ведь ты, наверное, еще никогда не была в 14-м районе?
- Что ж мне оставалось? Я только вздохнула.
- 14-й район Вены – это нечто в высшей степени убогое: однообразные коробки жилых домов, построенные ни то пленными, ни то турецкими арбайтгайстерами. Серые стены, темные улицы. Из отеля (по виду – просто ночлежка) вышла, покачиваясь, пьяная негритянка, стала ругаться с таксистом. Он ее тоже стал ругать на костариканском языке. Нам дали комнату на сутки за 42 монеты. Т.е. это была почасовая гостиница, 2 ойро в час. Карл когда-то говорил мне, что ему нравится во мне соединение мадонны с гришкой распутиным. Ну, теперь, Карл, берегись!
- Я еще напилась пива, для пущего куража.
- Помаду выбрала самую темную – «кровь взбесившегося быка».
- Измазала его раздавленной клубникой.
- Четырехугольная комната, как застенок, с красными стенами и суровыми литографическими рисунками, изображающими воинственные походы и африканскую охоту на львов, составляли интерьер.
- (вырезано цензурой)
- Серый рассвет. За окном уже давно идет унылый дождь. Я осторожно ухожу в туалет. У меня все еще воинственное настроение. Возвращаюсь – Карл улизнул в душ!
- – А, ну, выходи!
- – Ну, Лана, я тебе скажу комплимент. Ты трахаешься, как матрос!
- Да, в детстве я мечтала не о принце, как мечтает большинство девочек (думаю, это миф), а о пирате. В полосатой тельняшке, в простреленной шляпе, с черной лентой на глазу (для конспирации). Он увозит меня в море, вернее, я сама пробираюсь под видом юнги на корабль, потом происходит узнавание, разоблачение, меня бросают в трюм, в трюме, на канатах, на мешках с порохом я соблазняю пирата, мы захватываем корабль – и начинаем вселять ужас на прибрежные деревушки рыбаков (дело происходит у берегов Корсики). Он дарит мне костюмы, захваченные в походах: мундиры командиров, камзолы музыкантов, трико паяцев. Мы собираем народ на площадях и играем запрещенные папой Римским пьесы: Марло, Кальдерона, Кампанеллы. Нам рисует декорации Караваджо. Пишет музыку Россини. Стихи Метастазио. Мы купаемся в искусстве, золоте, приключениях и невинном разврате (жжем факела и объедаемся, как Саламбо). У нас есть в трюме Машина Времени, Эликсир Молодости и Философский Алмаз. Мы владеем семнадцатью языками, крокодильей фермой, у нас эскадрилья ученых дельфинов и редкая коллекция жуков. Мы объезжаем все страны земли и я пишу книгу о философии моды, об эстетике сластей. Наконец, мы ссоримся с пиратом из-за ничтожной причины (кому поднимать флаг) и я стреляю ему из мушкета в сердце. Умирая, он просит никогда его не забывать, похоронить среди акул (почему-то забывая, что у нас есть Эликсир молодости)… Но я вовремя вспоминаю – приключения продолжаются!
- Я спросила Карла: а ты о ком мечтал?
- – Я всегда хотел быть рыцарем без страха и упрека с волшебным мечом и разорять женские монастыри кармелиток, пещеры прекрасных иудеек, серали персиянок, молельни украинок и капища славянок в ночь на Ивана Купала и перед Рождеством.
- Еще он говорит, что хотел быть открывателем, с подзорной трубой и картой звездного неба.
- – А ты подаришь мне свой меч, которым ты отрубал чести тела неведомым чудищам перед бабушкиным зеркалом?
- – Попозже, не сейчас… через неделю-другую, угу?
- Вот он всегда так: что у него не попросишь, говорит: попозже… словно надеется, что попозже можно и не дарить. Только поэтому мне приходится красть у него самостоятельно.
- Носки, например… и изменять ему с его носком (все тот же набоковский варьянт).
- Но он со мной себя чувствует свободным: говорит: ты не цивилизованный человек, ты – первобытный человек, самобытная дикарка. Еще имеешь инстинкты.
- Но это только по сравнению с ним. Настоящих тигриц он, конечно, не видел, потому что они водятся только в Африке.
- Вообще, в Австрии женский вопрос – это больная тема. Более несчастных существ, чем чистокровные австриячки, вы больше нигде не найдете. Во-первых – поголовно некрасивые, во-вторых – мужеподобные, в-третьих – душевно убогие, в-четвертых – озабоченные пенсией (а тут еще как раз пенсионная реформа подкосила всех невест на выданье: если не будут копить сейчас, старость светит лишь через маленькое закопченное окошко); вообще – выходить замуж не выгодно (не те субсидии); в общем, беда. Отсюда и характер: обозленность, подозрительность, невежество, агрессивность, скупердяйство, мелочность, нервозность, фригидность, глухой ропот в подушку по ночам. Еще по молодости вроде и теплится некоторое душевное, а также животное начало, но в сорок лет уж женщины в них нет: просто крысы. Как-то с Карлом мы гуляем 8 марта. Смотрим – демонстрация ни то панков, ни то подонков: с рупорами, лысые, в штормовках, со свистками. Подходим ближе: да это же все девушки, женщины угнетенного Остеррайха, с физиономиями, от которых лучится отвращение ко всему прекрасному. Кричат: «Свободу Луису Корвалану!» Карл хотел было в шутку встать в их ряды, помочь понести транспарант. Они его вытолкали пинками, зашипели, как Медузы. Ничего более страшного я от нашего брата еще не видела. Ты думаешь почему, читатель, меня узнают на улице, оглядываются? Потому что все остальное население блистательной некогда Вены попросту лишено пола, по крайней мере, женского.
- (Вышесказанное не относится
- Ну, да, мы оба фантазеры. Театральные деятели. Герои драм. Опереточные герои. Герои домашнего и публичного театров. Герои мотелей. Герои островов.
- к блядям (потому что они все-таки пытаются кое-как обозначать свой пол через позы унижения);
- к проституткам по вызову (тут пол должен быть налицо, ибо – товар);
- к туркишфрауен (можно точно определить по платку и нагловато-скромным глазам, опущенным ниц);
- к полькам (тут все понятно);
- и к некоторым индивидуумам, или уникумам, которые имеют талант и досуг, чтобы работать над собой. Это жалкая горстка. Золотой фонд. Когорта неприкасаемых. Образец для маленьких девочек и трансвеститов.
- Женщины с колясками тоже как бы на что-то намекают, но это лишь отсылки в прошлое и предостережение будущему: «Гитлер капут!» «Фашизм не пройдет!»
- Женщины с колясками тоже как бы на что-то намекают, но это лишь отсылки в прошлое и предостережение будущему: «Гитлер капут!» «Фашизм не пройдет!»
- ну, и справедливости ради нужно отдать должное пляжу: там, под солнцем, вне забот и в неглиже даже последняя выжившая из ума старуха не лишена способности к самоидентификации.
- – А как тебе негритянки?
- – Я же говорю обобщенно (что, конечно, не корректно); они черные жемчужины; если у них и есть проблемы, то чисто метеорологического свойства: страдают от альпийских ветров, ну, и от ночных посиделок на кухне с друзьями мужа, которые из кожи вон лезут, чтобы ей угодить.
- – А китайки?
- – Эти маленькие обезьянки, к сожалению, вне нашей культуры. Но когда они подают на стол суши в своих аккуратненьких, старательно вышитых золотыми арабесками тужурках, в мягких вкрадчивых тапочках, словно подушечки у тигра, и уходят, как привидения, ничего не говоря и поджав губы, мне почему-то кажется, что их дома бьют бамбуковыми палками – не со зла, а для профилактики.
- – А еврейки?
- – Интеллектуальные, сексуально активные, топят очаг.
- – А узбечки?
- – Сидят перед зеркалом, заплетают косички, пекут лепешки, страстно кричат.
- – А мордва?
- – Все, Карл, перестань. Они песни любят петь. И почти все авангардисты. Почитать тебе Айги?
- – Почитай.
Зима приближалась а детскостью мира- Девочка-свет
- Там – за дорогой – за снегом
- Была – словно дома
- И братьям юности – ветки
- Были
- Для этого дня – письмена
- Из бездны рождений-пустот!.. – и до края – страны
- – Все?
- – На сегодня этого более чем достаточно. Спокойной ночи. Спи. Как снег. Как свет.
- 9
- Я обратилась к крутым ребятам за помощью: мне надо похитить одного человека! Они украинские хлопцы, угоняют у лохов-австрияков машины, гоп-стопируют их у банкоматов. (Карл же будет сопротивляться, если я, например, закажу его Ольге Бригадновой и себе, вырвется и убежит). А от крутых в рыжье не убежишь, не проканает. Они типа щас уроют, как сосульку. Они собираются в еврейском ресторане у Макса после делов, гуторят и кумекают там по-своему. Разводят типа базар, гонят тюльку, падлы. Мне они не то, чтобы покровительствуют, а как бы по-светски строят глазки (у Макса обеды дешевые – 6 евро; дома готовить будет дороже).
- – Короче, – говорю. – Есть заказ: чувака надо обезвредить.
- – Для Вас, Роксолана, мы готовы поехать в деревню картошку собирать.
- – Только у меня денег нет, а натурой мне – запалдо.
- – Да Вы не комплексуйте. Мы женщин и детей через дорогу переводим, собакам лапу жмем. А сало у нас и у самих есть не съесть.
- – Только я вам сообщу когда. Сейчас еще рано.
- – Да и мы не торопимся. Верно, хлопцы? Да и человеку если лишний день на воле – тоже красота!
- На том и порешили с крутыми.
- Теперь у меня есть это крайнее оружие. Если Карл вдруг начнет вести политику охлаждения или отдаления, я его мигом уворую, посажу на бессрочную цепь. У Ольги есть и дом на окраине, в Хюттельдорфе, где у них детская музыкальная школа: там хоть завойся – никто тебя не услышит, Карл.
- Но есть еще один план (на тот случай, если мы подпишем контракт – теперь я уже настаиваю, что мы через 6 лет станем жить вместе). Уснуть. Сном Джульетты. Уже ходила к врачу на консультацию. Теоретически, говорит, это возможно: заморозить, усыпить, разбудить. Но вы еще крепко подумайте… И у меня есть некоторые сомнения:
- 1. Пока я буду прохлаждаться в хрустальном гробу, кто будет согревать Карла, любить его, бить его ремнем. Карл же не будет 6 лет ходить анахоретом. Он найдет себе др.девушку (бр-р!), по простоте душевной расскажет, что у него спит в гробу законная девушка и освободится из гроба в 2009-ом, 12 ноября. Где гарантия, что она или он, или они вместе не сговорятся и не отвезут меня на свалку истории, где в кучах жестянок и объедков роются жалкие калеки… они выковыряют меня, изнасилуют и съедят.
- 2. Хорошо, Карл не будет так жесток: он отвезет гроб в ресторан, закажет стол, цветы и свечи, еврейских скрипачей и гитаристов – и я восстану со звуками смычков… прозрачная, воздушная, сомнамбулическая… но! Но вдруг я не узнаю его. Вдруг я стану совершенно равнодушна – к еде, к свету реальности, к языку местности… Ведь кто знает, что может т а м присниться, в какие речные дали тебя увлечет даль, какие поэты незримыми вихрями рассекут тебе плоть.
- 3. Время…этот источник яростной страсти и головокружения эроса… время… (не могу подобрать слов) будет предано мною забвению… время забудет меня… и это будет главное мое преступление – эмигрировать в молчание, в бесчувствие, в смерть.
- 4. И, наконец, помните поучительный фильм «Бегство мистера Маккинли», когда Бонионис через 1 кинематографическую секунду проснулся (через 24 кадра и тысячу лет) и выбежал на поверхность
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
- – А как тебе негритянки?
10
-
- Пока стоит еще Оттакринг – оплот анархии и сопротивления – поедем-ка на выставку. Там в галерее Дада выставлены замечательные фотографии смятых простыней, инсталлируемых под шум моря (под вздохи художницы). Проникнемся этим шумом, этим шелком и бархатом бронхов:
- Шшшшиииииии …… шшшшииииииии …….. шшшиииии …….. шшшшшуууууууу ……. шшшшшшююююю ….. щщщщщщиииииии … шшшшшшшююююююююууууууууууууууууууууууууууууу ….
- И эти складки, как волны моря, как дюны – следы наслаждения двух простуженных стихий… ххххххххуууууууууууууууиииии…
- Я взяла интервью у художницы, художница сказала: это м о я страсть, м о е вожделение, м о й покой. Почему же тогда меня так взволновали эти ч у ж и е складки. Нет, будем считать, что стихия сладострастия едина для в с е х.
- У меня тоже есть серия фотографий: окно, потолок с люстрой, стена с картинкой альпийской зимы, ступеньки, кровать, проч. Ни человека. Аскетический концепт. Но за кадром, за кадром, совсем близко от края кадра, вот-вот войдет в него рассеянной походкой в не начищенных башмаках великий сын барона. И только я знаю о его незримом присутствии среди этих банальных вещей.
- Но почему-то кураторы не торопятся сделать мою выставку, показать ее свету – скудоумные идиоты, ангажированные на дешевый успех… Ничего, скоро они засуетятся, как голодные вши – да только мы будем гнать их пинками: не мешайте нашему южному морю под созвездием Шивы! Ха-ха!
- (фотографии, кстати, прилагаются к цветной вкладке)
- Если я сниму фильм (будущей осенью я собираюсь поступать на режиссерский факультет в Киноакадемию), первым делом я сниму комнаты, комнаты, комнаты, комнаты с глуховатым эхом в которых будут звучать наши голоса.
- Но мне еще нужно успеть дописать «Словарь моды» – дипломная работа и соотв. бестселлер в развивающиеся страны. У Карла, кстати, тоже три образования. Мы не дураки.
- Карл сказал: вот напишешь диплом, и мы заключим наш шестилетний договор.
- Я ему верю, потому что кое-что видела, а именно – фотографии его прежних любовниц. Ничего не могу сказать о внутреннем содержании (фотография ведь вещь плоская, внешняя и дискретная), но меня поразил их совершенно никчемный облик, их антиартистизм, хоть они и пытаются на снимках выдавить из себя актрис: что-то убогое в этих натянутых на широкие скулы улыбках, что-то нафталинное в этих немецких фольклорных нарядах на крепеньких, с толком, с расстановкой сбитых фигурках. Подозреваю, что они были лишь вторыми женами Карла, а вовсе никакими не любовницами со всем диапазоном исходящих от них проблем. Некоторые из них, конечно, играли роль матерей, роль ласковой бабушки (умели вкусно делать пышки). Но постепенно он вышел из того возраста.
- Теперь я выступаю в качестве инфанты, девочки-безумца, зверка, зверька.
- Мне хочется быть твоей кошкой, чтобы лежать на столе среди твоих бумажек. Ты бы вытаскивал из-под меня свои бумажки: «Лана (Роксик), ты улеглась прямо на мой сценарий! Пойди покушай «кити-кет», как говорят акулы рекламы – «корм любимых кошек»!»
- Он любит зверей больше, чем людей.
- Когда-то (дитя, ребенок) он жил в собачей будке, делил тюфяк с собакой (Сента). Общение с Сентой (мистически-эротическое) он вспоминает, лежа со мной под глухо накрытым одеялом. Котенок прыгал возбужденным прыжком на его одеяло, будя к утру; котенка звали Мирко.
- Сейчас его командный пункт (офис) украшен рисунками экзотических зверей (худ. Цёттель).
- И, конечно, зайцы! Этот лунный зверь – символ похотливости и долголетия. Ушастые белые черти. Афродита покровительствовала зайцам.
- А я говорю: Единорог мой! Только девственница может словить единорога.
- А вообще-то я хотела бы быть твоей собакой. Знаешь, какой у меня нюх острый!
- Карл пахнет Карлом. Я могла бы бесконечно его нюхать (губы, ноги, уши, анус (анус у Карла похож на телевизор с полосками – какой мы видели однажды на инсталляции; я говорю об этом, чтобы сказать всем, кому надлежит, что у Карла совершенно современный анус, и было бы совсем не стыдно показать его в музее)).
- А он целует мои туфли, каблуки. Он тоже фетишист, «изысканный извращенец» – эстетическая дефиниция, соответствующая рангу «непоседливый небожитель».
- Я говорю: Ты же божественнее из богов!
- – Ты для такой прекрасной роли выбрала трехклассного актера!
- Скромничает.
- И я все никак не могу выпросить у него немного мочи. С ударением на втором слоге. Карл все никак не может, не хватает духу. Не может переступить какой-то предел. Стесняется?
- Я ему говорю: ты же обещал! у меня уже и бутылка припасена.
- – Лана, сейчас жарко, она пропадет.
- – Ничего не пропадет. Я буду ее использовать как духи. «Парфюм от Карла!» А! Ну, иди, пописай.
- – В данный момент я не хочу.
- – Тогда подождем с часик.
- – Давай подождем до зимы: вот придет новембер…
- Уж новембер за окном.
- А мочи все нет.
- Не надо злорадно смеяться; это печальное стихотворение не содержит в себе никакого юмора. Кто не знает, что у любящего нет разделения в любимом на внутреннее\внешнее, на дух\организм, правое\левое. Любимый – это пространство вне координат культуры-обыденности. Если бы все были только влюблены, как сюрреалисты, то социум бы распался в три дня:
- СВОБОДА – ПОЭЗИЯ – ЛЮБОВЬ –
- и некому было бы водить трамваи, считать деньги, угнетать рабочих, насиловать крестьян. Все бы отдалось любви и простору, вдохновению и откровению – и ангелы бы наконец спустились с неуютных гор в долину любви и присоединились к бесконечному совокуплению счастливых людей!
- И что мы видим вместо этого?
- Мрак и бездну ужаса безлюбого труда и леденящего расчета.
- Пока стоит еще Оттакринг – оплот анархии и сопротивления – поедем-ка на выставку. Там в галерее Дада выставлены замечательные фотографии смятых простыней, инсталлируемых под шум моря (под вздохи художницы). Проникнемся этим шумом, этим шелком и бархатом бронхов:
11
-
- Может, все дело в том, что у меня тип эротомана (эротоманки) и мое призвание вечно наслаждаться-страдать – ведь чувственный тип это аватара несчастья, вечные узы, узлы привязанности к телам, вещам, к проявлениям, явлениям. О! как они обманчивы, как непостоянны! Сколько они несут на себе сторон! Как они непрочны! Порочны! Греховны, наконец. Когда ты прозреешь, как Будда, ты можешь увидеть в этом чувственном мире только липкую грязь, за которой ничего нет, ничего не стоит – только видения, которые надели на себя платья из праха, маски из жижи; и в этом злом маскараде… как это у Кузмина? «где все полупритворство, полу-
- обман…» - точнее так:
- Мы нежности открыли школу,
- Широкий завели диван,
- Где все полулюбовь и полу
- Обман –
- Все это обман, обман чувств, которому мы рады, как дикари. Истребление. Всех нас ждет истребление, как пьяных индейцев. Самоуничтожение, самосгорание на ветру. Сколько их было – рабов любви – и все сгорели. Не от спида, так на дуэли, не на дуэли, так в кабаке, не в кабаке – так от рук возлюбленных. Кого минула сия славная участь, те в страшных муках умерли от быта… заеденные швейными машинками… перемолотые мясорубками…
- Спаслись единицы, у кого была голова на плечах, кто вовремя отстриг себе низ.
- Война с телом бесполезна, тело жаждет тела, множит тела для дальнейшего разложения. Смертельный номер. Безнадежный прогресс.
- Но любовь – это еще цветочки, сладчайшее – впереди.
- Кто сильно любил и кого пронесло над пропастью, тот знает, как сильно не хочется потом умирать. Как будешь цепляться за каждую травинку, былинку, паутинку, косо летящую в осеннем воздухе; как будешь глядеть на тыкву – и не наглядишься, как будешь рубить эту тыкву у себя на огороде и не нарубишься – потому что ты вдруг куда-то (куда же это я?) уходишь, а глупая тыква – остается. Тогда уже не помогут никакие преступления, потому что смерть зовет переступить через самого себя, единственно через себя, единственного. И сам себе – как говорится в писаниях – будешь враг себе, и возненавидишь себя, как не возненавидел бы чужого, и будешь хулить и поносить на чем свет стоит – предмет своей телесности, тело. Страшное дело.
- Может, все дело в том, что у меня тип эротомана (эротоманки) и мое призвание вечно наслаждаться-страдать – ведь чувственный тип это аватара несчастья, вечные узы, узлы привязанности к телам, вещам, к проявлениям, явлениям. О! как они обманчивы, как непостоянны! Сколько они несут на себе сторон! Как они непрочны! Порочны! Греховны, наконец. Когда ты прозреешь, как Будда, ты можешь увидеть в этом чувственном мире только липкую грязь, за которой ничего нет, ничего не стоит – только видения, которые надели на себя платья из праха, маски из жижи; и в этом злом маскараде… как это у Кузмина? «где все полупритворство, полу-
12
-
- Сегодня посмотрела в зеркало: что такое? Что за полосы идут по телу? От плечей до бедер. Страшные следы от звериных когтей. Все понятно: это Карл меня так исполосовал. Вчера. В гостинице «Трех тюльпанов». Он уже давно подбивал меня, чтобы я ему изменила, чтобы рассеять мой пыл, разбавить эссенцию моих потенций, чтобы ему легче жилось. Что ж, случай представился: Стоян, художник из овощеводческой Болгарии, пригласил компанию на футбол на траве, на глинтвейн и шашлыки, в предместье, где живет у баптистов Ольга Бригаднова, фольклористка и певунья. Все удалось: и горячий глинтвейн с апельсинами, и несколько юмористический футбол (11-1 в нашу пользу), и сладкое свиное мясо на ребрах, и прыганье через костер, словно это не проводы тусклой осени, не встреча светлой зимы, а Ивана Купала заочно и экстерном, и хождение по углям пьяненького секретаря, и «12 стульев» из видеопроката, когда все уморились и прошли в дом. У одного кавалера из нашей команды была бутылка виски с выдержкой 70 лет, и я не расставалась с этой реликтовой бутылкой, пила из горлышка (мой фирменный стиль, когда мне особенно весело, когда на меня находит гений полного и окончательного пофигизма)… В общем, этот кавалер мне показался симпатичным и я уехала с ним на машине в шуршащую колесами ночь. На измену. А на следующий день в «Трех гвоздиках» рассказала о моем подвиге Карлу. И вот – результат! Он выпустил когти! Моя победа!
- (Для пущего эффекта я объявила, что подхватила от этого мимолетного футболиста грибок. Карл решил, что это уж слишком смелая ложь. Не знаю – не знаю…)
- Скажите, у вас в роду беременные были?
- У вас там пистолет или вы просто рады меня видеть?
- Все генитальное просто.
- Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят.
- Ой, вы уже уходите, а без вас так весело было.
- Не надо вводить в меня заблуждение.
- Нет, я не сплю, я просто медленно моргаю.
- У людей посмотреть да свой показать.
- Рыба была такая, что без трусов в воду не войдешь.
- Человек сам себе пиздец счастья.
- Не зная падежов, не говори глупостев.
- Она была сложена хорошо, только рука торчала из чемодана.
- Съел бобра – спас дерево.
- Не ту страну назвали Гондурасом.
- Нет времени на медленные танцы.
- Один в поле не понял.
- Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
- В одиночку это, конечно, нельзя читать. Тошно, грустно, отвратительно, не смешно. Юмор, смех – вещь коллективная (только сумасшедшие смеются сами с собой или смешливые от природы люди), я так одинока, отщепенец, изгой, что даже банальные эмоции, такие непосредственные, какими владеет любой ребенок – покатываться со смеху, смеяться, умирать от смеха – мне почти что недоступны. Очищение смехом – самое чистое.
- Херберт добрый, улыбчивый, но внутри у него никакого смеха давно нет: выжженная холодная пустыня, по которой катятся колеса перекатиполя: вижу, как грустно он бредет по продуваемой набережной Дуная, механически сворачивает на Лёвенстрассе, озирается на Радецлатц… словно ища кого-то, кто был, но кого уже нет ни на Лёвенстрассе, ни на Радецлатц, ни на свете. Пустыня во вне, зеркально отраженная внутри. Ни смерть, ни жизнь. Даже не выжидание. Ступор. Не покой. Бесплодное напряжение. Словно слепое созерцание холодных углей. Коробка спичек без спичек – даже не погадать на судьбу. Как он живет? (он живет в соседней комнате) Что ест? (мы и питаемся врозь). Что ему снится? (во всяком случае, не крейсер «Аврора»). Куда плывет? (никуда). Ожидает Годо.
- Но этого ли мы ждали.
- Какая была свадьба! Принц и принцесса. Лошади в бантах, карета от Людовика IV, зал с расписным потолком, стены обиты китайским шелком, расписанным райскими птицами, сценками у ручья; серебряная посуда, причудливые яства, несгораемые свечи, корзины несказанных цветов… Я в платье маркизы, кружева, воланы, плечи, стан – словно с картины Брюллова…намного лучше (потому что реальнее): мечта, сошедшая на землю… Мда…Поэзия в обличье.
- Потом путешествие за океан, в Америку. Я заработала денег. Служила в банке по 12 часов. Хотела, чтобы мы посетили Чили, Мексику, Аляску, водопады, библиотеки… Но Хергарт не поехал. Остался дома. Я поехала одна. В свадебное путешествие – одна. Мне даже не с кем было над этим посмеяться… закричать: «Земля! Земля!»
- В результате – в Америке за мной ухаживал миллионер (ну, не миллионер, а просто богатый старичок), предлагал жить у него на иждивении – 2 года – и 2 000 $ в месяц, чтобы я его сопровождала на людях, на водах.
- Теперь бы я была богата и весела. Но отказалась от старого, хрестоматийного, прости, господи, пути.
- И, вот, что я теперь? Рабыня новых хрестоматий…
- Сегодня посмотрела в зеркало: что такое? Что за полосы идут по телу? От плечей до бедер. Страшные следы от звериных когтей. Все понятно: это Карл меня так исполосовал. Вчера. В гостинице «Трех тюльпанов». Он уже давно подбивал меня, чтобы я ему изменила, чтобы рассеять мой пыл, разбавить эссенцию моих потенций, чтобы ему легче жилось. Что ж, случай представился: Стоян, художник из овощеводческой Болгарии, пригласил компанию на футбол на траве, на глинтвейн и шашлыки, в предместье, где живет у баптистов Ольга Бригаднова, фольклористка и певунья. Все удалось: и горячий глинтвейн с апельсинами, и несколько юмористический футбол (11-1 в нашу пользу), и сладкое свиное мясо на ребрах, и прыганье через костер, словно это не проводы тусклой осени, не встреча светлой зимы, а Ивана Купала заочно и экстерном, и хождение по углям пьяненького секретаря, и «12 стульев» из видеопроката, когда все уморились и прошли в дом. У одного кавалера из нашей команды была бутылка виски с выдержкой 70 лет, и я не расставалась с этой реликтовой бутылкой, пила из горлышка (мой фирменный стиль, когда мне особенно весело, когда на меня находит гений полного и окончательного пофигизма)… В общем, этот кавалер мне показался симпатичным и я уехала с ним на машине в шуршащую колесами ночь. На измену. А на следующий день в «Трех гвоздиках» рассказала о моем подвиге Карлу. И вот – результат! Он выпустил когти! Моя победа!
13
-
- Секретарь уже заготовил титульный лист для моего романа (это уже не повесть, не повестушка, думаю это потянет на роман):
- Роксолана БОНЧ
- ЗАКОВАННАЯ ЛАНА
- (книга для маленьких девочек и их братиков
- от Парижа до Ташкента)
- любимому мужу Карлу
- в лето 2003
- издательство «венский стул»
- Я забраковала все, кроме посвящения. Любимому мужу Карлу, с любовью, в дни молодости! Хорошо звучит. Как бы надпись на обороте фотографии. На самой фотографии – мы, светящиеся и молодые, на фоне бирюзового моря с чайками над головами (чайки нарисованы поверх ультрамаринового неба). Такой легкий кич, способный умилить всех страдающих эстетов. Как-то Маяковский принес Лиле коврик с лебедями (лебеди толсто набраны стеклярусом на волосатом рубиновом пруду) как бы ради поиздеваться над чувствами мещан. Ан, нет, Лиля коврик полюбила и спала под ним всю жизнь. Так что все эти вкусы – как, собственно, и гениальность гениальных людей – условны: игра, спекуляция, комбинирование, понижение-повышение ставок на «здесь-это-сейчас». Гений выигрывает, вернее, сорвавший куш, – гений, тысячи гибнут в нищете и забвении.
- Где же тут вкус и справедливость?
- Карл тоже гений: сумел собраться в нужном месте в нужное время в нужном качестве.
- Спрашиваю у него: что для тебя мораль?
- И вот что он нарисовал, несчастный формалист:
- M O R A L
- O R A L
- R A
- O R A L
- – что в переводе означает:
- МОРАЛЬ ОРАЛ РА ОРАЛ
- т.е. он совершенно не знаком с проблематикой этического и считает этику производной от эротики, которая, уклоняясь от этики, выходит напрямую в эстетику. Такое было в истории человечества: некоторые греки, некоторые каббалисты, некоторые символисты, футуристы, бомбисты и абстракционисты перескакивали через морок морали, прыгая при этом как бы не в длину, а в ширину. Так проще, всегда есть шанс перепрыгнуть.
- Почему художники – такой бессовестный народ? Или, наоборот, такой уж покладистый, как бы совестливый? Потому что все они перепрыгнули – одним прыжком, в три прыжка, с шестом, перелетели с помощью зимних лыж с трамплина.
- Философы-одиночки, например – самый лучший народ. Не видно, не слышно. Красота!
- «…и либидо, никогда оно не нарушит покой между братом и сестрой, это связь „без желания“….
- …письмена полны бесчувственной резкости, непростительной вульгарности… они почти все неподлинны: вымышленная переписка…
- …я как будто спрашиваю себя, что значило „ходить вокруг да около“ с самого моего рождения или около того. Я еще поговорю с тобой и о тебе, ты не покинешь меня, а я стану совсем молодым, а расстояние неисчислимым…
- …я понял, что это была ты. Ты всегда была моей „метафизикой“, метафизикой моей жизни, „обратной стороной“ всего того, о чем я пишу (моим желанием, словом, присутствием, близостью, законом, моим сердцем и душой, всем, что я люблю и что ты знала до меня)…» –
- из записной книжки Карла,
- но не знаю, к кому это обращено.
- На др. стр.
- «…Ни философия, ни психоанализ, ни любовные письма, те, что ты пишешь мне, я перечитываю их на улице, и у меня вырывается стон боли, как у сумасшедшего, потому что это самые обворожительные письма, которые я когда-либо читал, первые письма, когда-либо написанные, но я должен сказать тебе, что это были последние письма. Ты не столько мне была предназначена, сколько предназначена, чтобы писать последние письма любви. Потом ни они, ни я больше не смогут, и я смею думать, что сие хоть немного тебя опечалит. Не только потому, что твоя любовь от этого приобретает немного эсхатологический и сумеречный оттенок, но и потому, что разучившись писать «любовные письма», они никогда тебя не прочтут…»
- И еще очень загадочное:
- «Необходимо писать то, о чем нельзя говорить, особенно о чем не надо умалчивать. Я – человек слова, у меня никогда и ничего не было для письма. Когда у меня есть что сказать, я это просто говорю или говорю самому себе, и баста. Ты единственная понимаешь, почему это было необходимо, чтобы я писал обратное, говоря об аксиоматике, о том, чего желаю, о том, как я себе представляю свое желание, в общем, о тебе: живое слово, тем более присутствие, близость, обладание, присмотр и так далее…»
- Да, когда он за письменным столом, он другой, нездешний, чем когда он переступает порог стола, чтобы выйти мне навстречу. Между пространством письма и пространством пола есть нечто, невидимая пленка, разделяющая и в этом разделении неизбежно соединяющая два тех же самых мира.
- но сколько детского горя в глине было,
- которая повиликой нас обвивала, политик,
- сколько нежной боли было в сыпучем гравии, хрусте; потом
- к ручью мчались через воскресный народ, и народ не ведал
- о том, что мы проиграли, но, может быть, мы тогда победили, –
- протоколы истлели в цементных чертогах;
- не помню, зачем вечер над столом стлался, когда
- ты стащила с себя джинсы и попросила книгу за это,
- название которой забыл... – а сосны ночью? Политик,
- не забывай, как тащил головастиков из дождевой бочки.
- Там водоросли – фригийской, пентатоновой мелочью,
- а ты себя видел и пытался яхту пустить в водоеме,
- глубина его превышала тебя (ты бы там захлебнулся),
- а ширина была так, по пояс, что кораблик казался хлебным,
- а потом пустые годы, стройные, как стропила пожара.
- Не окончанье ли явное подвигло тебя угодить не в малину,
- но в сухие листы, по пересчету косы под клевер. Плакал ли ты,
- когда понимал, что голоса тех к тебе не доносятся. То есть,
- они доносились, звали на ужин, домой, но шли как бы сквозь,
- потому и решил, что воспрянешь и все будет сделано,
- наденешь пиджак, прочтешь историю о героях, но мята
- тебе говорила, что много печали, никого нет, мать там,
- откуда малина, сухие кусты, жуки златые зовут откуда,
- но чему никто не откликнется, потому что другие сезоны,
- а ты давно взрослый, политик, ты – мыслишь законы,
- забывая, что правил не понял простой математики;
- так и в школе, где впервые вдруг ощутил запах соседки по парте,
- когда империи рушатся, словно мел на доске дочерней,
- когда платье тебе не досталось, а если осталось, то никому.
- 13
- По типу мышления он, конечно, больше американец, чем европеец, но только по складу характера, по комплексам он неврастеник-австрияк.
- Как-то в Калифорнии они с другом Дженуа (он сейчас профессор философии в одном из европейских университетов) читали цикл лекций – „Идиотские науки“. Одна из лекций так и называлась – „Философия о говне“!
- (сам текст не сохранился, к сожалению)
- И что они сделали!
- Читали лекцию под музыку „Тоски“ – ударение на последнем слоге, – голые, перемазанные в говне!
- Эта лекция до сих пор – украшение мифологии Калифорнийского университета.
„…кало! В просторечье – выделение. Оно идет вниз, в землю, в царство мертвых. Мы знакомимся с калой в детстве, когда еще кала представляется нам частью нас (смотрите, из меня выпал маленький ребеночек!) – Фу, это кала, сейчас же выбрось! – и механизм научения эстетическому заработал. Т.е. кала – это точка отсчета прекрасного, высокого, божественного, благости, блаженства, наслаждения, продолжения личности, материал метафорики. Когда мы стоим во взрослом возрасте перед великой картиной за пуленепробиваемым стеклом, как мы артикулируем всои впечатления, чтобы выразить их наиболее полно: „да это же усраться-обосраться!“ А когда мы хотим копнуть поглубже и ввести некоторые эстетические дефиниции, то пишем: „В искусстве главное не ч т о, а – к а к!“ Это „как“ как частица, почти вытеснена из сознания, когда мы сравниваем что-то с чем-то: рыба, как сабля, сабля, как рыба. Можно отдать себе отчет, что рыба трансформируется через калу в саблю, сабля превращается через калу в рыбу – такие трансформации можно видеть в пластилиновых мультфильмах. То есть вся поэзия держится на таком мгновенном переходе из одного в другое через это „как“: как бы незримая кала держит, связывает вещи-знаки мира, образуя смысл, как бы внутреннее содержание, ценность. Калорийная кала! Витамин жизни! Помните, из чего Бог создал людей: из собственной гл, калы, конечно, потом цензура почистила миф, т.к. в основание человеческой истории пришлось бы вводить несколько странную фигуру: БОГА НА ГОРШКЕ. По Фрейду же – это как нельзя лучше подходит к детству человечества. Де Сад тоже за: за десакрализацию Бога и за сакрализацию калы.За умную молитву. Здесь, в Калифорнии прошла выставка: „Новая иконография“, так мы видим на ней иконы, вылепленные калой слона по имени Тоху-боху, что с бенгальского переводится как „изначальный хаос“. Интересная перверсия. В том смысле, что наш драгоценнейший Бог тоже не с неба свалился, а как бы пришел снизу, из брюха мифического слона. А одна девочка в Вене (из развивающейся восточной страны Армении) вылепила около двух тысяч маленьких срущих какашками мужчин – такая у нее дипломная работа; девочка, конечно, туповатая, уродливая, не здоровая – как бы борется за чистоту окружающей среды от мужского кала: зеленая она; но симптоматика невротизма у нее верная: что-то слишком чисто в нашем королевстве, может быть, – запор? Я сам практиковал чистку своего ануса с помощью муляжа члена и, знаете, как йог, испытывал радость освобождения, такую революционную легкость и подъем, метафизическо-мистическую открытость – как у божественного маркиза. Творческую окрыленность. Креатуру-креативу, как сказали бы на вашем иезуитском факультете. Это славно прочищает мозги. А теперь домашнее задание: Бахтин, Де Сад, Вознесенский, Сорокин. Практическое задание: костер из коровьих лепешек. Следующее занятие – просмотр типового фильма Пазолини. Спасибо за внимание…“
Это я нашла у Дженуа, вернее, он по моей просьбе прислал из Марселя сохранившуюся страничку с такой припиской: «мы тогда были молоды, и нам такие вещи казались откровением (эту лекцию Карлей назвал «откровением через жопу»), нас чуть не уволили, спасло лишь то, что мы читали в воскресенье. Никакого философского дискурса в Америке никогда не было (в классическом духе), все читали свои индивидуальные философии, была мощная школа нео-фрейдизма, структурализм, пост-структурализм, нео-марксизм, лингвисты, симулякры. Полная анархия. Мы еще тогда задумали уйти в эстетизм, гедонизм и артистизм, т.е. в сущности, в философский нигилизм. В отказ от поиска смысла. И в этом был смысл. «Философия калы» – пробный шар и маленький шедевр. Жаль, что мы это забросили, прошли мимо золотой жилы. Надо было продумать. А так, как я теперь это понимаю, все, что не до конца продумано, не переварено – это и есть говно. Привет Карлею. Что это он там задумал? Тряхнуть молодостью. Ну, ну.
- Желаю и Вам здравствовать. С почтением и проч.»
- Секретарь уже заготовил титульный лист для моего романа (это уже не повесть, не повестушка, думаю это потянет на роман):
14
-
- Мои успехи таковы: с 6 лет срок моего одиночества сократился до 3 (это не значит, что уже прошло 3 года). Но, как в сказке, мы договорились: просто отняли на бумажке. Он пошел на это, как мне показалось, с некоторым легкомыслием: 6,3 – какая разница, когда счет идет на года: далеко… Все это как бы за горизонтом реального времени. Скоро Рождество – а до него и дела нет. Только видно, что воздух как бы окаменел, надо одевать шапку с ушами, поставили деревянные киоски, в которых кипятятся бочонки со сладким вином, в витринах прибавилось игрушек, открыток, свечек, ангелов на нитках. Театралы готовят спектакли о чертях, гримируют на все лады нечистую силу. В лесу доживают невеселые дни елочки. Темнеет рано. Вена блестит, горит, зловеще искрится, как ангина.
- В Музеумквартир на выставках. Книга фотографий на тему порчи бытия. Чулок со следом зацепки. Пизанская башня в крутом крене. Клонированная овечка с матерью-сестрой (непонятно которая которая). Рот с выбитыми зубами. Тетенька на каблуках подвернула ногу. Шрам на груди. Машина всмятку. Толстый бородатый человек в лодке с маленькой рыбкой (антихемингуэй). Ряд окон вверх, только на одном из них – тарелка телевидения: экспорт картин. Липучка для мух – линия смерти. Парад солдат, только у одного избранного знамя. Куча снопов на лугу. Слон с черным фаллосом. Голова жертвы в гильотине… Только ладони в молитве с рисунка Дюрера… Общий пафос: странности мира, несовершенство. Но сами фотографии как бы совершенные.
- А так же насмешила серия комиксов «Поездка в дерево». Автомобиль с человечком (некто Карл V) выезжает на петляющее шоссе и ровно через 4 кадра врезается в дерево. Бамс!!! Приезжают спасатели, уносят бедолагу на носилках. На следующем рисунке он опять за рулем. Событие с вариациями повторяется 25 раз. Скорой помощи уже надоело такое постоянство, и она заранее выезжает к опасному дереву… но сама не справляется с управлением: Bazz!!! Bomm!!! Тогда за дело берется полиция, сопровождает рокового водителя… но… тоже не справляется с управлением: Bazz!!! Bomm!!! Klazz!!! 30 листов веселого идиотизма. Художник Волк.
- Конечно, проблема: бытие чувств и бытие сознания.
- Человек и мир сконструированы так своеобразно, сложно, что без специального образования, обязательно попадешь в паутину жизни и не выкарабкаешься: влипнешь, как говорится, всеми своими хрупкими крылышками. И вот ты уже не летаешь над банкой липового меда, а пристал на липучку.
- Все мы друг для друга пауки и мухи, липучки, сети и дырки от сетей. Наверное, нет человека, который не развешивал бы сети, сам бы в них не попадал. Ибо такова наша бытийная конституция, определяющая наши умственные возможности.
- Например: страдать от любви. Казалось бы – противоречие из противоречий, логический абсурд. Страдать от блага. Но пусть это так просто говорится; на самом деле пусть будем страдать от отсутствия любви, т.е. объекта, предмета, на который направлено наше хищническое стремление к обладанию.
- Обычно влюбленность в предмет возникает, когда он еще не наш (возьмем этот близкий случай), скажем условно – Карл, Томас, Маркус. И нет никаких точных данных, что он будет нашим. Однако, структура желания такова, что воображение приписывает статус действительного тому, чего в действительности нет. Налицо уже первая промашка. Лапка увязла. Химера любви впитала в себя первый живительный сок. У нее появились кровеносные сосуды, студенистые рыбьи глаза, хребетик. Желание, Интериоризировав эту наживку – возросло. Любовь усилилась, тесня благоразумие с поля очевидностей. Да и сами очевидности теперь уже замутнены, так сказать, двойной экспозицией: умом – одно, сердцем – другое. Здесь начинается эпоха мнения и сомнения. Борьба двух начал, двух концов, двух типов самочувствия: к ночи нам мнится, о заре мы сомневаемся. Но не надо сомневаться, что в этой забалансировавшей структуре победит мнимое мнение (в нашем случае). Т.к. со-мнение способно также сомневаться и в себе: и вот как только оно в себе усомнится однажды утром – все: морок любви занимает уже все позиции. Теперь никакого сомнения быть не может: это – Любовь! До гроба. (Имеется в виду до того времени, когда Химера вдруг лопнет, вызвав катастрофические разрушения или постепенно спустится, как резиновый шарик, чтобы постоянно путаться под ногами, напоминая о прошлогодней демонстрации).
- И вот с этого момента она начинает жиреть. Она обрастает здоровыми волосами, она требует, она ревнует, она приказывает, казнит и милует! Нервничает, капризничает, скачет, как дитя, по дорожкам! Болеет. Лечится. Словом, функционирует как нечто существующее, легитимное.
- И тут-то и начинаются для нее страдания. Потому что, заполнив все субъективное пространство носителя (агента любви), она оказывается слепа. Чувство полностью лишено навигационных инструментов – рефлексии и самосознания, расчета, предусмотрения. Носитель как бы превращается в шаровую молнию, траектория которой непредсказуема. Но шаровой молнии и нет никакого дела до предсказаний, в ней уже нет больше времени, нет даже здесь и сейчас – пространство и время свернулось, свернув тем самым и весь мир. Это поистине – несчастное сознание (ни о чем не могу думать, ничего не могу делать). Резко снижается успеваемость, возрастает травматизм на дорогах, появляется повышенная конфликтность с социальным окружением, невнимание к родителям, отвращение к труду. Эксцентричность, эгоцентричность, радикальные жесты, неуместные манифестации.
- Вот такая, брат, метафизика.
- ПРИМЕЧАНИЕ. «Сложность определения чувства заключается в сочетании в нем, с одной стороны, непосредственности, а с другой – субъективности; чувство представляет собой непосредственность формы. Платон отрицает такое сочетание субъективности и непосредственности в чувстве, согласно Платону, чувство тем и отличается от сознания, что не является способом данности нам нашей жизни. Платон совершенно справедливо говорит, что чувства непредметны, сферой чувств служит чистая изменчивость, и в чувстве нельзя найти ничего, годного для созерцания или знания.
- Напротив, когда чувство, или содержание чувства, становится чем-то «для» сознания, т.е. получает предметный и определенный вид, то в этом предмете сознание соотносится с самим собой, и мы имеем уже не опыт чувства, а опыт сознания.
- Платон не замечает, что в чувстве, хотя в нем нет предметной определенности, есть определенность воления. Платон разделяет точку зрения Сократа, что в чувстве не различены удовольствие и страдание, но не находит иного смысла «удовольствия» и «страдания», который был бы применим к чувству, и который объяснил бы, почему чувство является «опытом» и «жизнью», а не просто ничем для нас» .
- Ноговицин. Два смысла бытия. Метафизические исследования XIV. С.-П. 2000.
- Поэтому он и держит дистанцию, культивирует точечные соприкосновения, потому что боится «ослепнуть», уходит от «страданий». Его рассудочность – вот главное препятствие. Если бы удалось это снять… Но это невозможно: безумным ведь он мне будет неинтересен: одно дело – я его умного катаю в коляске, а другое – он мычит и пускает пузыри… Как найти консенсунс?
- Мои успехи таковы: с 6 лет срок моего одиночества сократился до 3 (это не значит, что уже прошло 3 года). Но, как в сказке, мы договорились: просто отняли на бумажке. Он пошел на это, как мне показалось, с некоторым легкомыслием: 6,3 – какая разница, когда счет идет на года: далеко… Все это как бы за горизонтом реального времени. Скоро Рождество – а до него и дела нет. Только видно, что воздух как бы окаменел, надо одевать шапку с ушами, поставили деревянные киоски, в которых кипятятся бочонки со сладким вином, в витринах прибавилось игрушек, открыток, свечек, ангелов на нитках. Театралы готовят спектакли о чертях, гримируют на все лады нечистую силу. В лесу доживают невеселые дни елочки. Темнеет рано. Вена блестит, горит, зловеще искрится, как ангина.
15
-
- Думаю: уехать к черту (к ангелам) на Килиманджаро, одной, взять термос, ледоруб, мобильник, фотографию К. и затеряться там в снегах, в расселине, потихоньку остывая, пия последний глоток сладкого кофе, выцарапывая последний знак ледорубом. Мобильник звонит, требует меня к ответу, а ветер над Килиманджаро метет хладный пух, рисует по сугробам поземкой: нет ответа от Ланы. К. волнуется: что случилось? куда подевалась воинственная нежная амазонка? Начинает проникаться вдруг напрямую заявившей о себе пустотой. Вот тогда-то он все вспомнит, все оценит, все поймет: что его никто так никогда не любил и уже никогда не полюбит. И что ему будет вся эта его целесообразная суета, слава и слова, слова. Волчицей будет выть, мявкать диким котом, ломать шею лебедем. А мой улыбчивый труп в капюшоне будет стоять в расселине вниз головой. «Исчезновение на Килиманджаро!»
- «Еще одна загадка природы!» «Куда уходят слоны любви?» Волнения в прессе.
- Потом Потоп! Мой айсберг выплывает в Новые времена! Его встречает Другая Цивилизация! Находят термос с остатками волшебного напитка, капюшон из неведомого пушного зверя, фотографию лика! Весточка из Исчезнувшего Мира! Послание из Дыры Времен! На обороте – фрагмент криптограммы:
- …в час вечерний – помни обо мне…
- удается приблизительно расшифровать… и по этой расшифровке приблизительно восстановить весь объем канувшей Культуры…
- Мда, только муж у меня любитель все выбрасывать: надо же додуматься – выбросил два термоса, будто они ему мешали. Ну, он же не собирается на Килиманджаро (хочется повторять это головокружительное слово, означающее «повелитель африки достающий до неба смотрящий грозным оком за горизонт»), он и в Альпы не может выбраться, боится подвихнуть ногу, принести за шиворотом клеща.
- Венок, что я сплела в июне, из ценных трав, в которых я лежала, смотря на солнце средиземноморья и улыбаясь Карлу сладкогубо – исчез с телевизора, испарился! Говорю Хергарту: ты не брал поносить мой венок? – Какой венок? – Цветочный. –Я же не лесбиянка, чтобы носить венки; не видел. Может, домработница Ранница присовокупила? Но Ранница тоже божится, что не покушалась на венок. Что творится? Что за черт! Уж не завелся ли барабашка? А секретарь мог взять венок и продать? Мог. Ольга еще была. Ольга тоже могла. Может быть, и я иногда хожу по карнизам в качестве сомнамбулы…да. Да и венок… может и пригрезился… возможно и лежит вот тут, под рукой, но я его не вижу… наваждение… наваждение!
- Как и всякий, когда вещь теряется, я не нахожу себе места.
- Молоток еще ладно, его можно заменить другим подручным, полотенце заменимо; рисовать можно спичкой, зеленкой; писать кровью, ногтем; ходить можно на утюгах; но символическое не заменишь! Потеряла карлушину шапку, рыдаю в поезде; подходит студент: вы, что, потеряли проездной билет? – Нет, вязаную шапочку друга! – Так возьмите мою. Новая. Теплая. –Не, спасибо, не в этом соль…
- А с другой стороны: Карл подарил цюрихского льва; и вот я сплю с ним: он у стенки, я с краю… Иногда посреди ночи включу свет, посмотрю ему в его постную, дефективную морду: так, что, лёва, мне так и спать с тобой всю жизнь, да?
- Только улыбается, таращит желтые глазища. Обниму его: ты бы хоть хвостом, что ли, повилял.
- Шапка нашлась.
- Потерялись колготки и два платья. Тоже мне дороги. Вспоминаю на пол дороге: забыла в отеле, в Хорватии. Выхожу на станции, поворачиваю обратно. А там прислуга уже ходит в моих колготках! –Э, нет, так не пойдет. Снимайте, снимайте.
- Карл удивляется: откуда у меня такие вещи? Не бедные. Он-то мне ничего не покупает (более того, еще должен 100 европейских монет), подозревает, что это от богатых дядей. Вовсе нет. Я знаю магазины, знаю дни, когда идет распродажа: вот пальто на мне: коричневый джинс, лисья оторочка, плетеные петли, перламутровые пуговицы. 900 евро. Но я его купила со скидкой в 80% за полгода до сезона. Или духи: шикарный QLEY – 260 S флакон. Благодаря пипетке и пробирке у меня есть всегда немного в запасе этого пьянящего QLTYея. Украшения: на рынке за 3 ойро выбрала иранский медальон: роспись, обжиг, бронза. Или: Карл подарил гвоздь (авангардистский подарок); ювелир за поцелуй вписал его в пирамиду, закрепив тонкой проволокой, – получился оригинальный кулон.
- Иногда Карл посмотрит на меня, полюбуется, задумается и скажет: «Вы – мой декоративный пол!»
- Да, моя эстетика – это стихия, которая приносит наслаждение.
- Глаз, ухо, тело должны наслаждаться.
- Иногда я вижу красивую девушку, в какой-то мере даже прекрасную, живую, но с поврежденным чувством вкуса (например, в черном платье с таким непомерным вырезом на спине, что это уже смотрится ошибкой портного, кроившего этот вырез по крайней мере для крупа лошади). И целостность девушки пропадает: все внимание устремлено на эту сюрреалистическую спину. Или: красное, как бы карменситовскеое, платье в такую обтяжку на ягодицах, что обязательно ищешь полоски от плавок, а не находя их, неприятно поражаешься, что этих самых плавок на карменсите вовсе нет. Мне нравятся костюмы тонкие, полупрозрачные, многослойные, с вкраплениями блесток, глянца, вышивки, кружев, аппликаций. Даже простой костюм должен представлять из себя комбинацию из не менее семи (7) элементов: поверх джемпера обязательно оденьте полосатую маечку, поверх юбки можно повязать поясом шелковое кашне. Белье нужно носить обязательно. Я не понимаю тех тетенек, которые ходят в футболках на голое тело с торчащими, как рога, сосками. Это уже какие-то простонародные фурии с завихрениями. Так и хочется написать на их майках: «не забуду мать родную» или «любовь зла!»
- Но красивые ноги без синих прожилок следует показывать далеко выше колен.
- Татуировки на интимных частях я рекомендую только отпетым девицам, не надеющимся дожить до старости (отгадайте с трех раз почему).
- Но, право, все мои пожелания – это глас вопиющего.
- Только что дикторша венского телевидения, освещающая последние достижения культуры, явилась перед взорами 8 миллионов австрияков в… в судейской футболке с белой полосой вдоль рукава! Каково!?
- Что касается искусств – тут уже давно все вне всякой критики…
- Все махнули на это дело рукой: лишь бы что-нибудь было, что-нибудь бы теплилось в печурке…
- Думаю: уехать к черту (к ангелам) на Килиманджаро, одной, взять термос, ледоруб, мобильник, фотографию К. и затеряться там в снегах, в расселине, потихоньку остывая, пия последний глоток сладкого кофе, выцарапывая последний знак ледорубом. Мобильник звонит, требует меня к ответу, а ветер над Килиманджаро метет хладный пух, рисует по сугробам поземкой: нет ответа от Ланы. К. волнуется: что случилось? куда подевалась воинственная нежная амазонка? Начинает проникаться вдруг напрямую заявившей о себе пустотой. Вот тогда-то он все вспомнит, все оценит, все поймет: что его никто так никогда не любил и уже никогда не полюбит. И что ему будет вся эта его целесообразная суета, слава и слова, слова. Волчицей будет выть, мявкать диким котом, ломать шею лебедем. А мой улыбчивый труп в капюшоне будет стоять в расселине вниз головой. «Исчезновение на Килиманджаро!»
16
-
- Пьесу Карла расхвалили, возложили ему на голову венок (подождите, так это же, нет, это другой, золотой, цезарский, дантовский; лавры ему идут, он в них сразу такой нелепый, пугливый, в очках), было несколько критик в «Вечерней Вене», его сравнивают чуть ли не с Чаадаевым: сатира на венское общество, на имперский австрийских дух, усугубленный провинциальным диалектом – комедия ослышек. Но тема сама – Тема Тем: Возвышенное и Земное: последние дни Вольфганга Моцарта.
- Фигурирует ученик и завистник Зюсмайер, взбалмошная жена Констанция, пятеро ребятишек, взбесившееся контральто Кавальери, сластена Сальери в амплуа резонера, двор, уличные музыканты, настоящий пудель, превращающийся в женщину и обратно, призрак отца из огня камина, дым, свет, музыка, тишина, голоса, цокот копыт судьбы. Режиссер отказался от дорогостоящих костюмов барокко, персонажи ходят в современном, времен ÖFP, обмундировании.
- Вена – это прежде всего театрально-музыкальный город; куда ни брось – то бывший актер, то безработная танцовщица, то ищущий осветитель, то влезший в долги билетер.
- Ближе к вечеру улицы наполняются людьми с чехлами, в которых боркают, если не орехи с каштанами, то инструменты. Праздный народ посвистывает, насвистывает, присвистывает, поет. Слух есть у каждого, этого не отнимешь. Каждая семья прежде всего мечтает о рояле, о скрипке, о дочери за роялем, о кузене за барабаном. Культ Моцарта очень высок. Зальцбург и Вена – это своеобразная мекка и медина для верующих в человеческий гений, в падающую звезду. Бетховен. Штраус. В те времена действительно все было полно музыки, чумы и сифилиса. Бесконечный праздник! Пестрый букет наслаждений, страхов и интриг!
- Моцарт Карла.
- Это совсем не то, что Моцарт Пушкина.
- Говорят, тело Моцарта ужасно распухло в гробу – явный признак, что его отравили сулемой: медленным ядом на основе соединений свинца. Да и Сальери, когда впал в слабоумие, в депрессивный психоз (1835) будто бы приписывал себе почетное отравление Моцарта. «Врет!» – сказала Кавальери. Но Пушкин подхватил выгодную байку и тоже как бы написал себе не слабый Реквием (есть версия, что дантесовская пуля была отравленная; или просто произошло заражение крови двуокисью свинца). Плюс – Пушкин и Сальери умерли в один год, даже кажется, в одну неделю, как и Моцарт – все они солнечные, летние, не выдержали января. Правда, здесь есть одно подозрение: убийцы, как мы знаем, долго живут. А Сальери долгожитель. Ну, и, конечно, итальянец, сын Возрождения: итальянцы же эти – сыны Возрождения – были очень ненадежный в смысле морали народ, сластолюбиво-самолюбивый, все честолюбцы, все сами себе поэты. Моцарт за его спиной, конечно, мог говорить всякие пошлости об авторе 48 опер. На то они и артисты. Мол, пишет, пишет, городит, городит, а клавесин у него все звучит как балалайка. Но исследователи говорят, что у Сальери был статус придворного композитора, что он сам помогал ставить «Дон Жуана», отписывал Метастазио на помощь «Похищению из Сераля» и что, вообще, Моцарт на то время не мог быть ему соперником.
- И у Карла этой темы совершенно нет.
- Тема ревности-первенства разыгрывается в двух теугольниках: Зюсмайер-Констанция-Моцарт и Моцарт-Кавальери-Констанция. Третий треугольник: Свет-Бездна-Искусство.
- Здесь он многое, конечно, позаимствовал из собственной жизни.
- Использовал свои наблюдения.
- Я хотела сыграть его пуделя. Но режиссер уже утвердил на эту роль свою актрису, к сожалению… Я бы сыграла и душевнее, и замысловатей…
- Моцарт: Дорогая, сделай милость, сделай потише. Ты же знаешь, я терпеть не могу этот тяжелый металл.
- Констанция: А мне нравится. Тарелки.
- Моцарт: Боже, как они звучат! Это же какие-то соловьи-разбойники! Я оглохну!
- Констанция: Иди занимайся в спальне.
- Моцарт: Там холодно!
- Констанция: Заберись под одеяло.
- Моцарт: У меня мерзнут руки. Посмотри, какие они холодные, потрогай, какие синие.
- Констанция: Зато сердце горячее.
- Моцарт: Горючее?
- Констанция: Горячее.
- Моцарт: Какое горючее?
- Констанция: Не притворяйся Бетховеном. Зато, говорю, сердце у тебя горячее.
- Моцарт: А у нас еще не осталось горючего?
- Констанция: Погорюй еще.
- Моцарт: Я пришел в мир, моя милая, не горе горевать, а горнее колядовать (непереводимая игра слов).
- Констанция: Блядь, вот тарелку кокнула!
- Моцарт: Как говорил мой гениальный папаша, «это к счастью»!
- Констанция: С таким счастьем ты будешь есть из деревянной посуды.
- Моцарт (пораженный): Кто?
- Констанция: Иоган Кокто!
- Моцарт (раздраженный): Я же тебя просил, Константинополь ты мой, я же тебя просил!
- Констанция (струсив): Извини, Ади. Прости.
- Моцарт (трясясь): Я же тебя просил как человека не поминать мне под руку о деревянной посуде!
- Констанция: Я нечаянно.
- Моцарт: Деревянной посудой у нас в Зальцбурге называют строение, функционирующее как гроб. А так же это метафора конца, упадка, деградации, ничтожества, полного бессилия и разорения всех сфер, включая сферу музыки и музыку сфер.
- Констанция: Я поняла.
- Моцарт: Только я не понял, почему в конце жизни все меня хотят сжить со свету? (печально, вытаращив глаза в пространство) Пора писать Реквием. И Глюк вот пишет из Англии: «с Реквиемом не тяни, ибо секунды наши отпущены нам в соответствии с крещендо общей истории!»
- – и т. д.
- Пьесу Карла расхвалили, возложили ему на голову венок (подождите, так это же, нет, это другой, золотой, цезарский, дантовский; лавры ему идут, он в них сразу такой нелепый, пугливый, в очках), было несколько критик в «Вечерней Вене», его сравнивают чуть ли не с Чаадаевым: сатира на венское общество, на имперский австрийских дух, усугубленный провинциальным диалектом – комедия ослышек. Но тема сама – Тема Тем: Возвышенное и Земное: последние дни Вольфганга Моцарта.
17
-
- Сразу же после Моцарта начинается история новой музыки, новой поэзии, новых войн.
- Сразу же после Моцарта начинается история новой музыки, новой поэзии, новых войн.
18
-
- И приснилась мне круглая комната: потолок как купол – и посередине – черный рояль – блестит подлунной чернотой – и большой кожаный стул возле рояля – и я сижу с длинными руками – и собираюсь играть ---------- и боюсь ударить по белым клавишам – эти белые клавиши – пыль! – ударю – и клавиша рассыплется!
- А Карл говорит: не бойся, ударяй только по черным: у тебя и рояль черный, и кресло, и вся ты в черном, и ночь, и четыреста лет чертится чертеж, чреслами, мрача, крача, челюскинцы на чужбине ночевали молча, отчаянные чекисты чеканили рачков в значках отличия от безналичия, и чу! чудовище чапой на капище! Чаровница! Чародейка! Червяки черёмух! Чувырклы чаек. Чет-нечет не лечит, мечет. Пачули скачут. Начала рыбачат. Янычары калечат. Качели часом очумели. В чумазых чанах чинят чаи Чины. Не плачь, не плачь девочкой, червонный палач. Не ворчи в чулане в чувяках чудь. Аминь!
- А это уже ресторан – и Карл уходит – а я кручусь на круглом стуле – на сцене – будто мое шоу – и думаю: ведь Карла нет – и зачем я верчусь – ведь это же все бессмысленно –
- И я оказываюсь на кровати с подругой – на ее кровати – и крашу белым губы, брови – у меня все лицо белое – блудливо белое – я – гейша – я – паяц – я – мел – я – пьеро!
- И бронзовые кони скачут вокруг памятника Марии-Терезии, настоящие, но покрашенные бронзой, мускулы мяса ходят под кожей, словно там засели сплоченные воины (шпики), и одна лошадь кувыркается, за ней другая, шпики расползаются, а это туристы из Белграда, спрашиваю у туристов: вы Карла не видели? А Карл идет на меня задом наперед, вернее, там, где перед, находится зад, ширинка расстегнута, оттуда низвергаются ниагарой фекальные массы. Карл, что с тобой? А он идет такой раскорякой, и я силюсь убежать, и оказываюсь среди двух спортсменов, которые пытаются меня зажать, и я просыпаюсь.
- Нет под рукой сонника, но кажется, это немножко нездоровые сны (внутренняя тревожность).
- Из записной книжки Карла:
- «Она закрыла глаза, и я изумился, как легко одержана победа. Высокие деревья, томно шелестящие в саду, замерли. Неподвижные облака тянулись по небу длинными красными полосами, и во всем мире все словно оборвалось. Мне неясно вспомнились такие же вечера, полные такой же тишины. Где это было?
- В порыве нежности она сама себе дала клятву не отдаваться больше никому другому, что бы ни случилось и хотя бы ей пришлось умирать в нищете. Ее прелестные влажные глаза искрились такой могучей страстью, что я привлек ее к себе на колени и подумал: «Какой же я мерзавец!», восхищаясь в душе своей неисправимой испорченностью.
- Это не мешало мне расспрашивать, кто были ее любовники. Она всех отрицала. Мной овладела своего рода ревность. Меня раздражали подарки, которые она получала, продолжала получать, и, по мере того как меня все больше возмущал характер этой женщины, какая-то чувственная сила, властная, звериная, влекла меня к ней, – мгновенное наслаждение, сразу же переходящее в ненависть.
- Ее слова, ее улыбка, ее голос – все в ней опротивело мне, в особенности ее глаза, этот женский взгляд, всегда прозрачный и бессмысленный. Порою я чувствовал себя так невыносимо, что если бы она умерла у меня на глазах, я остался бы равнодушен. Но как найти повод для ссоры? Ее кротость приводит меня в отчаяние».
- А вот из записной книжки Херберта: написано справа налево, левой рукой:
- «Теперь, наверно, она в поезде, – смотрит из окна вагона на поля, мчащиеся в сторону Парижа, или, быть может, стоит на палубе парохода, как в первый раз, когда я ее увидел; но этот пароход уносит ее в беспредельную даль, в края, откуда ей нет возврата. Потом я представлял ее себе в комнате гостиницы: чемоданы на полу, обои свисают лоскутьями, дверь сотрясается от ветра. А что потом? Что она будет делать? Станет учительницей, компаньонкой, может быть, горничной? Теперь она во власти любых случайностей нищеты. Ничего не знать о ее судьбе было для меня мучительно. Мне следовало помешать ее бегству или же уехать вслед за нею. Разве не я ее настоящий муж? И думая о том, что больше никогда не увижу ее, что все кончено, что я безвозвратно утратил ее, я чувствовал, как все мое существо разрывается на части; слезы, накопившиеся с самого утра, полились».
- Что это? Какой это год? Он написал это, когда я уезжала в Америку? В Италию с Карлом? Почему он зашифровал? Почему и Карл пишет такие странные, похожие, строки? Он ли это пишет? Опять же – о ком? О, эти мужчины! Эти ангелы в волчьих шкурах. Овцы с глазами каракуртов. Олени с мозгом змеи! Если потребовать у Карла с Хербертом объяснений, они скажут: не воруй записки, не провоцируй сезам к слезам. И будут правы.
- Вот еще. Карл:
- «Я не сомневался, что буду счастлив до конца своих дней: таким естественным казалось мне мое счастье, так неразрывно связывалось оно с моей жизнью и с личностью этой женщины. Мне хотелось говорить ей что-нибудь нежное. Она мило отвечала мне, хлопала по плечу, и меня очаровывала неожиданность ее ласк. Я открывал в ней совершенно новую красоту, которая, быть может, являлась лишь отблеском окружающего мира или была вызвана к жизни его сокровенной сущностью.
- Когда мы отдыхали среди поля, я клал голову ей на колени, под тень ее зонтика; или оба мы ложились на траву, друг подле друга, погружались взглядом в самую глубину зрачков, возбуждая друг в друге желание, а когда оно было утолено, мы, полузакрыв глаза, молчали.
- Иногда слышались где-то вдали раскаты барабана. Это в деревнях били тревогу, созывая народ на защиту Парижа».
- Причем здесь Париж? На какую защиту?
- А вот из Хергарта:
- «Строгое спокойствие леса заражало их, и бывали часы, когда они хранили молчание, покачиваясь на рессорах, точно убаюканные безмятежной негой. Обнимая Роксалану за талию, он слушал и голос ее и щебетание птиц, рассматривал и черные виноградины на ее шляпке, и ягоды на кустах можжевельника, и складки ее вуаля, и завитушки облаков, а наклоняясь к ней, он чувствовал свежесть ее кожи и вдыхал ее вместе с запахами леса. Все забавляло их; они, как на диковинку, указывали друг другу на тонкие нити паутины, свесившиеся с куста, на углубления в камнях, полные воды, на белку в ветвях, на двух бабочек, летевших им вслед; иногда в шагах двадцати от них спокойно проходила под деревьями кроткая благородная лань, а рядом с нею молодой олень. Роксолане хотелось бежать за ним, расцеловать его.
- Как-то она очень испугалась: совсем неожиданно к ним подошел человек и показал ей в ящике трех гадюк. Она крепко прижалась к Фредерику; и он был счастлив, чувствуя ее слабость и свою силу, сознавая, что может защитить ее».
- Да, да, все вспомнила. Ну, конечно. Отгадка всегда лежит на поверхности, как письмо на столе из Шерлока Холмса. Какие же любовники не обмениваются любимыми книгами! Я дала почитать Карлу, Херберту – или это Карл дал почитать мне, а Херберт нашел и тоже зачитался, или это я взяла у Херберта и мы с Карлом читали вместе. «Воспитание чувств» – неиссякаемый источник!
- Да! А ведь раньше – лучше было!
- В эпоху сентиментализма.
- Все играли в любовь, как в Персии в шашки.
- Любовь и природа – все остальное казалось ничтожным.
- Бесхитростные умы разыгрывали хитроумные партии.
- Во времена наивных знаний – такие сильные страсти.
- Грезы, смутные образы, зыбкие очертания, благоговейный лад, своеобразная меланхолия, взволнованная сосредоточенность, святая ложь, затуманенный взгляд, двусмысленная репутация, наигранные угрызения совести, отрадные надежды, легкомысленные одежды, «Ангел мой! Ангел мой!», досада, случайность, широко раскрытые глаза, «Подлец! Подлец!», бесконечная нежность, заслуженная милость, бесчестие по собственной вине, тревоги, печали, унижения, ужас одиночества, охваченность опьянением, сливание в долгом поцелуе, пронзительный, раздирающий смех, утраченное блаженство, смиренная гордость, неизъяснимый аромат, невозможный шарман, жеманная проказница, прозрачные намеки, холодный ответ, мгновенная вспышка, прикосновения развратника, связь с особой предосудительного поведения, свежий воздух, нечаянный обморок, зловещие галлюцинации, великие бедствия, жалобные трели, беспредельное блаженство, удачный выбор, жар объятий, ложе смерти, яд поцелуя, капля крови, знак руки, отвратительное таинство туалета, странная печаль, безмолвное оцепенение, ласкающие интонации, взвинченные нервы, литературные замыслы, курительные свечи, не в силах противиться своим желаниям, дорогие безделушки, детские шалости, сердечное влечение, великая любовь!
- Да, куртуазный век! Где любовь была чистым жемчугом, не проколотым психоанализом, не замутненным марксизмом, не растворенным догматизмом, не обесцененным фельетонизмом. Я бы хотела жить в веках романов. Мой же век – век глянцевых журнальных обложек. Век порно. Порно – это приоткровение последнего покрова. Всё. Дальше тайны нет. Последний атом. Элементарный пиздец. Изначальная хуйня.
- Как-то грустно мне с моими суфийскими, ориенталисткими заморочками. Немного хуево на душе. Ведь с кем мне приходится иметь дело. С прагматиками, с обывателями, с художественными дельцами, у которых каша в голове. Постмодернистский компот! Компост. Разжиженный космос.
- Я бы хотела жить в цельную эпоху, быть весталкой в храме Весты, служить Хую-Богу, поддерживать Ось, неусыпно следить за Вертикалью Мира, жертвуя Сексуальным Огнем, а не быть горизонтальной жертвой вашей костной сексуальности. Я бы вдохновляла на войны! Я бы предсказывала подвиги! Я бы вселяла отвагу перед смертью! Я бы научила вас не бояться крыс! Я бы забросила в море ваши сети и в них приплыли бы со всех концов плоские односторонние рыбы с тайными письменами всех, сколько их было, одиссеев! Я показала бы вам пещеры, где обитают круглые тени! Я показала бы вам следы зимних охотников, на которых вам страшно не хочется охотиться! Я бы научила вас великому терпению, чтобы вам было с чем карабкаться на возвышение! Я бы сделала вас нищими, чтобы вы разучились смеяться как лягушки! Я бы наделила вас смеющейся злобой, чтобы вы немного полюбили Вечность! Я бы варила вам в соленой воде выкидыши, чтобы вы слушались ласточку на крыше! Я бы стерла в порошок ваши сны, чтобы вам было чем посыпать ваши могилы! Я бы ослепила вас вашим собственным сиянием – и вы бы увидели себя сквозь заросли папоротников чужими холодными глазами!
- Я б научила вас создавать игрушки лошадок, от которых дети не стареют! Я б показала вам нечто иное, нежели тень ваша утром, что за вами шагает, или тень ваша вечером, что встает перед вами; я б показала вам ужас в пригоршне праха!
- И вещий лингам Заратустры!
- И приснилась мне круглая комната: потолок как купол – и посередине – черный рояль – блестит подлунной чернотой – и большой кожаный стул возле рояля – и я сижу с длинными руками – и собираюсь играть ---------- и боюсь ударить по белым клавишам – эти белые клавиши – пыль! – ударю – и клавиша рассыплется!
19
-
- Я б показала вам Кумскую Сивиллу, сидящую в бутылке – и когда вы кричали бы ей: «Чего ты хочешь, Сивилла?», она отвечала бы вам: «Хочу умереть».
- «Измена со львом»
- (подражание Томасу Элиоту, мастеру выше, чем я)
- Войди в меня, лев мой
- Войди в меня, лев мой,
- Войди в меня, лев мой,
- Мой лёва,
- Войди же в меня!
- О, мой лев,
- Взойди на живот
- Изуми!
- О, мой яростный зверь!
- Эросхищник!
- Притворяйся искусственным
- Да!
- Притворяйся искусственным
- Да!
- Притворяйся искусственным
- Да!
- Полкило легкой плоти!
- Войди в меня, лев мой
- Войди в меня, лев мой
- Войди в меня с всхлипом и взрывом
- 12 декабря 2003
- Карл оценил мою поэтику, говорит: это в вашем (в славянском) духе – такое трагическое бессовестное ёрничание. Московское направление – «искусственная искренность», «матрешечный реализм». Помнишь, говорит, у вашего Достоевского «Исповедь Ставрогина», где изувер изувечил загробную жизнь Матреши: я никак не мог понять, как это Матрёша могла показывать извергу «кулачок»? Матрешки, как я понимаю, по определению не имеют ни ручек, ни ножек – и «раздвинуть им ложесна» представляется мне проблематичным. Или это там у вас такой особый русский сюрреализм с элементами патологии, которая никак не лечится каторгой? Не понимаю.
- – Так Россия же с Украиной – это дремучие еще страны. Со странностями. Секретарь как-то показывал перформанс, как писал Достоевский. Накрошил полбуханки хлеба в супницу, влил туда склянку можжевелового джина, взял ложку, поставил супницу на колени и выхлебал этот оригинальный суп и говорит: вот Достоевский, когда писал «Игрока», питался только этой питательной тюрей – все 21 день: поест – и 6 часов диктует, упадет, через 6 часов встанет, поест и опять диктует. А пока спит, Анна Григорьевна расшифровывает. Успели. Ко всему прочему, она еще успела и влюбиться в такого замечательного писателя. Но это, конечно, не единственный пример, когда выходят замуж «за литературу».
- – Ну, да, я знаю: в России, кажется, только две религии: алкоголизм и словесность – и они прекрасно сочетаются. Как говорят, когда ума нет – пиши литературу.
- Кстати, а ты сегодня молилась Ерофееву?
- – Нет.
- – Ну, что же ты? Нехорошо. Я, кстати, сегодня тоже не молился.
- Давай-ка зайдем в «Стулья». Надо помянуть нашего святого, нашего заступника. А, что, секретарь твой Веню не обижает?
- – Уважает.
- – А этот, однофамилец, я слышал, он дифирамбы поет немецкому народу в ущерб не немецкому. Совсем заблудился?
- – Да нет, просто тему нашел. Критика народонаселения. Рубит с плеча. Эмигранты страшно рады: не зря переселились под германские знамена. Бешеный успех.
- – Да, Лана. Да. Почитай нашу народную, а я пока тебе незаметно поглажу под столом ногу.
- – Ибо я не надеюсь вернуться опять
- Ибо я не надеюсь
- Ибо я не надеюсь вернуться
- Дарованьем и жаром чужим не согреюсь
- И к высотам стремлюсь не стремиться в бессилье
- (Разве дряхлый орел распрямляет крылья?)
- Разве надо роптать
- Сознавая, что воля и власть не вернутся?
- Ибо я не надеюсь увидеть опять
- Как сияет неверною славой минута
- Ибо даже не жду
- Ибо знаю, что я не узнаю
- Быстротечную вечную власть абсолюта
- – Ты что будешь? Абсолют?
- – Ибо не припаду
- К тем источникам в кущах, которых не отыскать
- – Битте, цвай гласс руссиш водка: айне истошник унд андере абсолютт!
- – Ибо знаю, что время всегда есть время
- И что место всегда и одно лишь место
- И что сущим присуще одно их время
- И одно их место
- – Пересядь сюда.
- Я довольствуюсь крохами теми
- Что даны мне, и в них обретаю веселость
- Оттого отвергаю блаженный лик
- Оттого отвергаю голос
- Ибо я не надеюсь вернуться опять
- Веселюсь, ибо сам себе должен такое создать
- Что приносит веселость
- – А просодия-то, смотри-ка ты, Бродского. Ну, не плачь. Траген зи унс битте калачей! (Принесите нам, пожалуйста, калачей) Унд? Унд вас ту треннен, майне шёне кулл? Филляйхьт, дас ист гарнитур ворте унд нихьтс мэер, айн кайн венихь ерграйфенд классике дас гарнитур ден цайлен. (Ну? Ну, что ты плачешь, как божья коровка? Возможно, это только набор слов и ничего более, немножко трогательный набор классических строк).
- – Ich weiß nicht.
- – Wo bleidst tu so lange?
- – Ich? (Pause)
- – Eine Moment, meine Herrschaften, ich küße du (Lacht)
- – Das schon…
- – Gnädige Frau!
- – Nein, nein, nein – so dürfen Sie nicht sprechen…
- – Warum? Fräulein, soll ich in Eurem Schoße liegen?
- – Я не знаю.
- – Как долго ты останешься?
- – Я? (Пауза)
- – Один момент, мой друг, я поцелую тебя (Смеется)
- – Уже…
- – Прекрасная женщина!
- – Нет, нет, нет – Вы больше так не говорите…
- – Отчего же? Девушка, лежали ли вы когда-нибудь?
- (ложится к ногам)
- – Nein, mein Prinz.
- – Ich meine, den Kopf auf Euren Schoß gelehnt.
- – Ja, mein Prinz.
- – Denkt Ihr, ich hätte erbauliche Dinge im Sinne?
- – Ich denke nichts.
- – Ein schöner Gedanke, zwischen den Beinen eines Mдdchens zu liegen.
- – Was ist, mein Prinz?
- – Nichts.
- – Ihr seid aufgerдumt.
- – Wer? Ich?
- – Ja, mein Prinz.
- – O, ich reize Possen, wie kein andrer. Was kann ein Mensch Besseres tun, als lustig sein? Denn seht nur, wie fruhlich meine Mutter aussieht, und doch starb mein Vater vor noch nicht zwei Stunden.
- – Nein, vor zweimal zwei Monaten, mein Prinz.
- – So lange schon? Ei, so mag der Teufel schwarz gehn: ich will einen Zobelpelz tragen. O Himmel! Vor zwei Monaten gestorben, und noch nicht vergessen? So ist Hoffnung da, daЯ das Andenken eines groЯen Mannes sein Leben ein halbes Jahr ьberleben kann. Aber, bei unsrer lieben Frauen! Kirchen muЯ er stiften, sonst denkt man nicht an ihn, es geht ihm wie dem Steckenpferde, dessen Grabschrift ist:
- „Denn o! Denn o!
- Vergessen ist das Steckenpferd.“
- Здесь Карл репетирует сцену, где Гамлет сетует па предмет женской забывчивости, предательства супружеских идеалов, походя травя своим горьким остроумием без вины виноватую Офелию.
- – О Небо! О лошадях печалуются дольше. (и проч. с нем.)
- Я б показала вам Кумскую Сивиллу, сидящую в бутылке – и когда вы кричали бы ей: «Чего ты хочешь, Сивилла?», она отвечала бы вам: «Хочу умереть».
20
-
- Познакомила Карла с секретарем, когда тот принес на встречу очередные расшифровки. Секретарь вдруг начал подозревать к концу ноября, что никакого Карла н е т, а е с т ь только мой карлообразный вымысел. Мол, мы рассказываем, рассказываем, рассказываем, рассказываем – и только в этом рассказе способны обнаружить фундаментальность существующего. Как подростки: врут и сами верят, что перетрахали всех девочек из Заречья. Я отвечаю, что это уже стало моим роком: когда я говорю правду – никто не верит, а навру с три короба – принимают за чистую монету. Это какая-то удивительная способность людского ума – переворачивать все вверх ногами. (Знаете почему? Мы же на самом деле – оптически все действительно видим в перевернутом виде: стулья стоят у нас на пололке, деревья растут с неба, под ногами – облака… – а мозолистое тело мозга это все корректирует, совершает умственную работу. Вот возьмем цвет: мы видим красный потому что на самом деле в нем нет ничего красного – все цвета поглощаются кроме красного, а только этот красный, отскакивая, попадает нам в глаз! Это физикалистская точка зрения; философская будет еще хуже: мы говорим красное только потому, что не уверены, что это зеленое).
- Вот так же и секретарь: «Карла н е т!»
- И вот я его ему показала: «Знакомьтесь, это – Карл!»
- На что секретарь протянул руку ладонью вверх:
- – Покажите Ваши документы.
- Карл протянул визитку: «Bitte».
- Секретарь повертел визитку, исследовал ее на свет:
- – Теперь я понимаю, – говорит, – что в Вас не ошибся.
- Они сразу перешли на «ты».
- Карл начал спрашивать, как зачали секретаря, знает ли он тайну своего рождения. – Да, знает: от рыбы.
- «Genau?»
- Он родился высоко на севере, около берегов Лапландии, где кроме рыбы ничего нет, все круглый год говорят только о рыбе, о ценах на рыбу на мировом рынке, о рыбьей чешуе, которая ходит там заместо денег, но перед самой рыбой не робеют. И вот давным-давно маман за разговором подавилось рыбьей костью – а через 9лет 9 месяцев и 9 дней появился секретарь.
- «O! Das ist sehr romantisch Geschicht! Liebst du selbs Lapland?»
- – Ja, ich eriene meine Fischland, aba ourope Kultur mich erienen besser.
- ( – О, это есть романтическая история. Ты любишь свою Лапландию? – Да, я вспоминаю мою Страну Рыб, но вспоминать европейскую Культуру мне нравится больше)
- Мы проговорили час. Карл угостил секретаря кружкой пива. Говорил, как после просмотра Гамлета в исполнении Смоктуновского хотел стать актером, как после просмотра на Новый год Короля Лира что-то нашло на него и он зачал существо сына и что сын его теперь растет таким шутом; как он мыслит себе литературу (как личное дело, интимное), как относится к драме (снисходительно, как к общественной нагрузке); что мечтает написать обо мне повесть, чтобы установить реальную дистанцию, а то я сейчас для него так близко, что ему кажется, что это уже бесконечно далеко.
- Когда он ушел, секретарь сказал, что Карл – это, конечно, герой нашего времени – законный творец своих собственных беззаконий; лиричный, ироничный, восхищенный, воспитанный на цельном молоке предшественников и возможно поэтому так и оставшийся ребенком. Удивительно, как он совершенно не похож ни на какого степного волка, мающегося от своего духовного стоицизма (критицизма); как это он сказал о ”Maline“ Bachmanna: „первые сто страниц несешься как на лыжах с гор!“ Он культурный гедонист, дегустатор, а не музилевский вивисектор, который «при жизни (1880-1942) много страдал от того, что ощущал себя не оцененным по достоинству». Ну да, пусть Музиль – один из тех, кто особенно остро ощущал кризисное состояние буржуазной цивилизации, кричащий разрыв между гуманистическим кодексом, унаследованным от прошлых эпох, и девальвацией всех его установлений в настоящем. Да, безнадежно-итоговый термин «декаданс», подразумевающий распад личности и закат целой культуры, составлял убеждения многих сынов века. Но почему – «общая тональность – трагедия мыслящего человека»? Что это? Такая мода на такую задумчивую позу? Если человек опустит лоб на кулак, то уж он обязательно трагик! А как же приключение самой мысли? Одиссея хитроумия? Праздник интеллекта? Нет, Карл никогда не был «декадентом». Напротив, постоянно пытается поддерживать себя в высокой каденции.
- Конечно, в этом ему помогает его природный игривый нрав, изначально выстраивающий игровые отношения с действительностью. Такое Легкое Безумие Баловня Богов. Он и Ницше считает именно таким легким безумцем от Тижолай Культуры, почти юмористом философии, «очень сентиментальным Вольтером в страшных тарасобульбовских усах». Карл может себе позволить эту роскошь безответственности, ибо – свободный художник. Друг своих современников. Драматург!
- В немецких театрах драматург это нечто другое, нежели драматик. Драматик – автор, писатель пьесы; драматург – адаптер, тот, который адаптирует пьесу для сцены с учетом возможностей и направленности того или другого театра. Драматург – это переходное звено между автором и режиссером, посредник, политик, посол, буфер обмена, критик, стилист.
- Это придумано для того, чтобы режиссер и драматик не занимались во время постановки изнурительной бессмысленной войной из-за слов и представлений («Театральный роман»). Драматург все улаживает, играя на две стороны, с позиции скромной середины управляя произведением. Драматику: режиссер говорит, что ему тут необходима тема видений Моцарта, т.к. театр в этом сезоне приобрел световые ловушки и надо, чтобы они работали на полную катушку. Режиссеру: драматик говорит, что ему необходимо вставить несколько инфернальных видений Моцарта, поскольку у врачей есть подозрения на скорый (драматика) инфаркт. И тема видений – введена. (Одна из любимых тем Карла еще из тех времен, когда он любил употреблять опиум). Таким образом, ткань пьесы всегда может быть переписана, перекручена по своему усмотрению, капризу: вроде бы и всё то, но уже не то!
- Так пишутся Конституции: кто-то один хитрый и умный пишет Всеобщую Конституцию под себя.
- Отсюда и характер Карла (или это его характер избрал себе профессию): гибкость.
- Ему можно было бы служить переводчиком на любой войне: и пленные бы сладко спали и генералы бы всю ночь толковали над картой.
- Карл эготист, не путать с эгоистом. Эстетствующая индивидуальность. В общем-то, ему др. люди нужны только для того, чтобы сравнивать себя с ними для дальнейшего самоусовершенствования-самоуважения. Голую критику – не любит, потому что она совершенно бесполезна, как заноза. Он и сам себе может дать отчет, если что-то у него не так.
- Ведь школа западноевропейской рефлексии беспрецедентна. Да другой и нет: декоративность мышления персиян, созерцательность китайцев, визионерство американцев, утопизм русских. Только европеец может думать о себе в третьем лице: а что он есть такое на самом деле?
- Смешная история с Карлом: наступил идя на работу в говно собаки, разговаривает с режиссером и думает: Фу, это ж надо как его угораздило! Кое-как убежал. Заходит в кабинет актриса, от нее тот же запах. – Вы только что от режиссера? – Да, только что. – Ну, все понятно. Больше к нему не ходите, он там где-то наступил сегодня, идя на работу, в говно. Вскоре прихожу я. –Что у тебя тут творится? – Да, вот, пропах весь насквозь нашим режиссером… – Да, нет, Карл, это идет от твоих ботинок, посмотри. И никакая привычка к самоанализу не помогла. Спасло хитроумие: потом ходил по офису и приставал ко всем: вы не чувствуете чего-то странного в атмосфере, как бы что-то грядет…
- А грядет уж Новый год!
- На выставке-распродаже в Музеумквартир купила валенок. Не простой: кляне валеночек мит урмашинен (с часами). Изделие нашей русской знаменитой художницы, 30 ойро. Но это окупится. Теперь мой суженый будет находиться под знаком моего времени: найдется свободная минутка, подумает – и позвонит. Можно даже написать афоризм: лучше всполмни и взгляни, чем взляни и вспомни! Помянем бессмертного Финнигана. Ну, и о смерти пусть тоже помнит: о моей – ибо в собственную не верит. А сам валенок пусть накукует ему про уют, про тепло, про Вселенную Женской Любви, которая вся – внимание, забота, ухаживание, обустройство одежды, дня и пути. Пусть он в этой простой вещи увит труд скотовода, бредущего со своими стадами на фабрику, клевер летней травы с шипящим шмелем над нектарной главой, крестьянские песни, могилы предков, незабываемое кино, антропогенез ящеров, незабываемые звезды... – т.е. все то, что мы называем Бытием.
- Познакомила Карла с секретарем, когда тот принес на встречу очередные расшифровки. Секретарь вдруг начал подозревать к концу ноября, что никакого Карла н е т, а е с т ь только мой карлообразный вымысел. Мол, мы рассказываем, рассказываем, рассказываем, рассказываем – и только в этом рассказе способны обнаружить фундаментальность существующего. Как подростки: врут и сами верят, что перетрахали всех девочек из Заречья. Я отвечаю, что это уже стало моим роком: когда я говорю правду – никто не верит, а навру с три короба – принимают за чистую монету. Это какая-то удивительная способность людского ума – переворачивать все вверх ногами. (Знаете почему? Мы же на самом деле – оптически все действительно видим в перевернутом виде: стулья стоят у нас на пололке, деревья растут с неба, под ногами – облака… – а мозолистое тело мозга это все корректирует, совершает умственную работу. Вот возьмем цвет: мы видим красный потому что на самом деле в нем нет ничего красного – все цвета поглощаются кроме красного, а только этот красный, отскакивая, попадает нам в глаз! Это физикалистская точка зрения; философская будет еще хуже: мы говорим красное только потому, что не уверены, что это зеленое).
21
-
- В конце 2003 года как-то все так, как-то так намагнитилось, что неизбежна была переполюсировка. Смена локаций. Коррекция ролей.
- Год действительно выдался тяжелым (не для меня):
- Землетрясение в Иране, унесшее из жизни всех кормильцев, стершее с лица земли исторические древности;
- Захват Саддама Хусейна, который вне времени бомжевал по катакомбам как несчастный Дед Мороз;
- Смещение непотопляемого Шеварнадзе;
- Провал в русскую Думу хрупкой японской девочки Хакамады;
- Смерть птиц от ревущих огненных пожаров в испанских лесах (не воскреснут);
- Голод и запустение в Нигерии (кукурузные поля напоминают погост);
- Покушение на Филиппа Киркорова в Рязани… - в общем, много было горя, политики, катаклизмов, маленьких людей маленьких катастроф (наоборот).
- Но не будем о грустном.
- Потому что в этом году я прочитала 26 книг, просмотрела 30 фильмов, была в 4 странах, в 15 городах, увидела Санкт-Петербург во всем его нарядном величии 300-летия и веселых его обитателей, смеющихся перед каждой эрмитажной картиной, словно там нарисованы карикатуры, познакомилась со ста девяносто девятью новыми людьми, сто пятьдесят из которых стали моими хорошими друзьями; сыграла в 3-х фильмах 7 эпизодических ролей и в 1-ой театральной постановке по Боккаччо девушку легкого поведения в лазурном платье из средневекового кабачка.
- Но самое главное – я познакомилась в этом году с Карлом, влюбилась смертельно и влюбила его в себя.
- И вот в конце года, перед Рождеством, Карл взбунтовался:
- – Лана, ты опутала меня по рукам и ногам, как Лиса Алиса и Кот Базилио бедного Буратино. Ты давишь на меня, как мраморная плита. Окружаешь, как пустыня. Ты не даешь мне, как Кампанелла, свободы. Ты узурпировала мою волю, как Клеопатра. Ты развратила меня, как Борджиа. Ты… ты… Мы останемся друзьями, но я больше не буду с тобой спать.
- – Ну, конечно, Карл, ты и спал-то со мной всего 34 раза. Или даже 33. И после этого ты утверждаешь, что я на тебя давлю!
- Я ушла. Хорошо, у меня тоже есть гордость, самолюбие, свобода, наконец. Я не хочу никому навязываться насильно, тянуть его, как тянут топить на веревке кота. Насиловать его тонкую плоть, словно я какая-то племянница Чикатило (был такой сексуальный маньяк, еще писали в газетах: теперь он в дантовском Аду, в восьмом, кажется, круге)… Да, забыла, еще Данте в этом году перечитывала, по двенадцатому кругу, но только – «Рай»… Что ж, нет – Нет! Все равно к э т о м у все клонилось, катится, будет падать. Нет дорог, которые не вели бы к руинам. Конец неизбежен, как не изгибайся кольцом. Лучше раньше, чем позже, лучше позже, чем никогда!
- Секретарь тоже (как сговорились): ухожу, говорит. В отставку. Беру расчет. Ляпсусов вроде нет, если только описка не закралась. Пожалуйте, Роксолана Михайловна баночку пива на веселое Рождество, треба трошки разговеться.
- Или это Зима так действует? Какая-то у всех антименструация.
- Солнце в далекой эклиптике. Сок трав отсочился. Отскочили почки. Отсочинялись сочинители. Скована наша Вена. Какое же все это скотство!
- Перед расставанием – он уезжает с семьей в каникулярное путешествие – вручаю Карлу букет цветов и валенок с часами: ты свободен, мой бедный друг! Я полюблю другого. Мой хороший знакомый Килиманджаро берет меня в феврале на Килиманджаро. Подарил вот золотые швейцарские часы. Хочет иметь от меня ребенка. Он тоже поэт, но сильная личность. Мы еще не целовались, но я подумаю. Такой вот расклад.
- – Лана, ну, это же совсем другое дело. Ты поразительна. Отдай-ка мне его часики, вот возьми мои обратно, пока, на время, я позвоню 28-го, возможно, мы увидимся перед ёлкой.
- Но цветы так и не принял: некуда в поезде поставить, – переподарил мне обратно.
- Да, я уже тренируюсь три недели: Восхождение будет не из легких, говорит Килиманджаро, до верхнего плато доходит только 13%; долго надо идти по серой золе, по зыбучему пеплу, потом по катучему льду: герои скатываются, как кубарики, как кубики, как коврики. И никаких культурных развлечений, кроме выносливого труда толстых ног. Отеки, воспаление дыхательных путей, кислородное голодание мозга, галлюцинации, видения, сны страха. Доходит только 13%. Возможны перебои сердца, разрыв аорты, воспаление хрусталика, эрозия сетчатки глаза, гипотония эрогенности, разрыв ахиллеса. Случается, что уже на начальном этапе может унести когтями орел-шатун. Вода нехорошая, зараженная подземными вулканическими микробами, потом нет и такой. Были времена, когда на восхождении люди ели друг друга. Ну, и, конечно, никто не знает, когда Килиманджаро может снова проснуться. В любую минуту. Один неверный шаг, одно пустое слово – и титан вновь заговорит раскаленными камнями и жидким огнем! Тогда уже никто не дойдет.
- Меня и берут в партию как человека-языка, лингвиста: Килиманджаро говорит, что я там буду заниматься изучением древних наречий, собирать африканские поверья (нас будут сопровождать аборигены). Это проверка. Если я справлюсь, выдержу, потом мы поедем покорять Тибет.
- А пока я кручу педали в тренажерном зале.
- Потею.
- Спорт – хорошее противоядие от любви к Карлу. Он окопался тут, в долине, погряз в своей низменности, защищенный декорациями, актрисками, этими субретками и одалисками, легковесный, как карточный король. Жульничает, врет, лжет, двурушничает, лицемерит. А на Килиманджаро не полицемеришь, нет. Там честные открытые лица, крепкая спортивная дружба. Светские капризничающие эгоисты в Килиманджаро не пройдут! Только 13%! Только 13!
- Боюсь только, что ноги у меня станут выпуклыми от этих тренировок. Что ж, пожертвуем и красотой. Как Дориан Грей. Продадим свои ноги, чтобы посмотреть с высоты на троглодитов (на вас, друзья мои, на вас!) Оттуда вас совсем не будет видно, ни процента! Ни одного!
- А то после нашего объяснения на высоких тонах Карл говорит: зайдем в неф, может быть, нам удастся замолить наши грехи! Зашли в Штефансдом, там такая часовенка, молельня, придел – и скульптурки ангелов, золотые жопки. И как бы проникаясь высоким готическим духом уходящего во мрак нефа, этими неземными ангелами, он начинает проникаться бесовским вожделением, улыбаться, как химера, и я чувствую, как он проникает ко мне под пальто своими хищными руками, все дальше, дальше, под шелк, а дева смотрит с такой злой печалью, запечатленной в опущенных губах, сложив в мольбе руки, а его пальцы проникают уже глубоко в мою растравленную плоть.
- Ах!
- Туристы подумали, что там страстно молятся, взывая в судорожном экстазе к мистическому восхищению… что-то залопотали, засюсюкали на японском языке.
- «Я хочу, чтобы меня похоронили в подвенечном платье, в белых туфлях, в венке. Волосы распустить по плечам; гробов три: один – дубовый, другой – красного дерева и еще – металлический. Сверху накрыть большим куском зеленого бархата. Я так хочу. Сделайте это» –
- мое завещание (на то случай, если )
- «Да и нет ничего на свете, что стоило бы искать; все лжет! За каждой улыбкой скрывается скучливый зевок, за каждой радостью – проклятие, за блаженством – пресыщение, и даже от самых сладких поцелуев остается на губах лишь неутолимая жажда более высокого наслаждения».
- Мы вышли из собора, как ни в чем не бывало. И затерялись среди косоглазых туристов. На животе у них – третий глаз.
Да, и главная опасность – «духовного пробуждения»: на Килиманджаро можно п р о з р е т ь , – и вернешься не человеком.
- В конце 2003 года как-то все так, как-то так намагнитилось, что неизбежна была переполюсировка. Смена локаций. Коррекция ролей.
22
-
- Уже вечером на Рождество, часов в 7, на елочных базарах рождественские елки никому не нужны. Они свалены в кучу, с отрубленными ветвями, чтобы никому не досталось за бесплатно. Карликовые старушки с неустроенной судьбой роются в завалах, набирая лапаков для убранства своих каморок. Перепившие само время, отдыхают, как в берлогах, прямо в этих елках. Им хорошо. Хвойный дух, сказочный лес. Утром проснутся – будет что вспоминать целый год. Ресторации закрыты, только в китайских ресторанчиках лампочки и красноватый свет. Там справляют неведомо что язычники и личности, которым все равно, что справлять.
- В окнах на Таборштрассе 24, подъезд цвай - пати, художественная вечеринка, «вакханалии», прыгают костюмированные тени в тюрбанах, в коронах, в оленьих рогах, просто лысые. Пьют вино из бутылок, прикуривают от свечей цигарки с анашой. Это счастливчики. Они пляшут исключительно под коктейль еврейско-индийско-цыганской музыки Азазелло. Ни у кого из них нет родины. Нет четкой самоидентификации и границ. Парнишка в тяжелых черных ботинках оказывается остроумной дамой, человек в глухом плаще оказывается двумя любовниками под одним плащом. Никакого напряга. Только сплетни, приколы и перевертыши.
- И полная чаша селедочного паштета!
- В этот сезон я играю в «Декамероне» 11 вечеров. Маловато. Статисту платят 25 е за выход. Разве это деньги! Проезд туда-сюда 3 е. Кусочек пиццы с соусом паприки 2 е. Баночка колы – отдай 1,50. Хорошо еще грим не свой и костюмы. Конечно, воду можно пить и из-под крана, экономить. Все-таки живем в капитализме. Хорошо, что я не курю, и алкоголь меня не тянет. Но сладкое люблю: швейцарский горький шоколад в золотой фольге, внутри немножко ароматного рома. Надкусываешь, высасываешь ром, закусываешь. И уже улыбаешься жестокому миру до ушей. Мясо не перевариваю, особенно огромные жирные куски, лучше отдам собаке, угощу белку. Здесь их много бегает по паркам и все страшно любят жареное мясо. Мягкие сыры. Крабовые салаты. Острые чипсы. Аспирин С. Обожаю апельсины. Еще мне нравится есть пыль со стола Карла. Ну, и зефир в шоколаде, разумеется. Манго – индийский напиток. Лосось. Но дешевая выпечка мне не нравится. И эта итальянско-французская еда: намешают всего и думают, что это очень вкусно.
- Когда я была маленькая и работала на конфетной фабрике, и мама меня била, я никогда не ела конфеты на производстве (не тот стиль – есть сласти на заводе), но у меня была красная шапка, и я складывала особенно красивые конфеты в эту шапку, и когда проходила через проходную, то шапка оттягивалась чуть ли не до полу. Потом на скамейке я осторожно ела добычу, разглядывая краски осени, наслаждаясь. Мы жили бедно, и остальной улов шел в семью.
- Возможно, поэтому я выросла такая сообразительная, на чистом шоколаде.
- Стоян рассказывал о другой альтернативе (тавтология, но – звучит), как они воровали в ушанках мясо, чтобы расти глупыми и сильными. Из магазинов самообслуживания. Возьмут бутылку простой воды за 2 лева, стоят счастливые в кассу. Под шапкой – парной кусок говядины. И вот они суют свою мелочь, а кассирша смотрит на них в ужасе и спрашивает: а почему, молодые люди, по вискам у вас вечно струится кровь?
- Стоян до сих пор промышляет и тут, в Вене, в поте лица. У него мастерская почти в центре, холодная. Но есть жуткая железная печь, на которую дров не напасешься. Но и где их взять – в каменном городе Вена? Температура же опускается по ночам до –5. И вот он ворует со строительных площадок по вечерам всякие шпалы. Однажды я видела, проезжая на машине, как они с моим секретарем несут на плечах толстый грязный брус. А вокруг чистые люди пьют под музыку морс, любуются архитектурой. Стоян так и не может рисовать зимой: вся энергия уходит на заготовку дров.
- Потому что вырос на мясе.
Секретарь же вообще всю жизнь заедал теплую водку холодным снегом. (Это просто разбавленное шило дает реакцию с выделением тепла, а снег по определению холодный – прим. секр).
- Христу вот только повезло с детством: и звезда явилась как цветок-комета, и волшебники с чародеями навезли на верблюдах даров, и добрые губы вола согревали от звездного холода, и ослица ушами пушистыми прогоняла назойливых мух.
- Отдайте кесарю кесарево, а мойное мне, себе же оставьте остальное. До сих пор идет грязный дележ. Но как говорил Остап Бендер:
- А теперь буду делить я!
- Шура Балаганов: Только по справедливости, я всегда хотел по справедливости.
- Остап: Вот, что голуби мои: эти десять тысяч мы снесем обратно гражданину Корейко, и он у нас их возьмет, и вот когда он их возьмет, мы спросим вполголоса: откуда? и тогда...
- Паниковский: честное слово, Остап Ибрагимович, вы знаете, как я вас уважаю, но, ей богу, вы идиот.
Все – и сразу, и все – мне, – моя новейшая космогония.
- Шура Балаганов: может быть, все-таки возьмете частями?
Бендер: (негромко, но твердо) Я бы взял частями, но мне нужно ВСЕ СРАЗУ .
- Невероятно, но у меня это почти всегда получается.
- Карл-то, если честно сказать, ведь почти весь уже в кармане!
- Еще Мария. Но я думаю и ее соблазнить.
- Карл подсказал – как.
- !
- 12 писем!
- Уже вечером на Рождество, часов в 7, на елочных базарах рождественские елки никому не нужны. Они свалены в кучу, с отрубленными ветвями, чтобы никому не досталось за бесплатно. Карликовые старушки с неустроенной судьбой роются в завалах, набирая лапаков для убранства своих каморок. Перепившие само время, отдыхают, как в берлогах, прямо в этих елках. Им хорошо. Хвойный дух, сказочный лес. Утром проснутся – будет что вспоминать целый год. Ресторации закрыты, только в китайских ресторанчиках лампочки и красноватый свет. Там справляют неведомо что язычники и личности, которым все равно, что справлять.
- Я увидел Вас случайно в театре с мужем.
- Продолжаю думать о видении, размышлять, бессонница, курю кальян, смотрю на луну: может быть на ней живут наши истинные души?
- Вы пришли во сне и дышали.
- О, Господи, я Люблю, я Люблю, я задыхаюсь без Вас!
- Я очень богат, я скрываюсь в вашей стране от преследования. Ответьте взаимно. Бен Ладен.
- Возможно, этого хватит.
- Мария начнет думать, размышлять, у нее начнут валиться из рук вещи, когда она оденет левую туфлю на правую ногу и пересолит суп, значит – все, она попалась.
– Что потом?
– Выдержим паузу: молчание.
– А дальше?
– Еще немножко таинственного молчания: тишина.
– А потом?
– Потом приходит посыльный с корзиной.
– Почтальон?
– Да. Нет, пусть это будет уличный мальчишка, симпатичный школьник с крыльями, вестник с корзиной.
– Что в корзине?
– Да. Она тоже еще не знает, что в корзине, корзина покрыта материей. – От кого, спрашивает она. – От человека в белой чалме.
- Тут у нее забьется сердце, как у Микки Мауса. Она открывает… а там…
– Что?
– Сложный вопрос. Ну, например, черника! Крыжовник. Крыжовник с черникой! Или раки. Корзина раков! И страшно и вкусно и забавно.
– Дальше.
– Она варит этих русских раков, играя с ними серебряной вилкой.
– А потом?
– Они начинают не шевелиться.
– А дальше?
– Они медленно краснеют.
– Так.
– Она засматривается на эту алую тайнопись природы и робко предчувствует, что влюблена в Бен Ладена, кто бы он ни был.
– Да, но она должна понять, что это ты.
– Нет, на меня она не подумает.
– Почему?
– Слишком абсурдно. Она скорее подумает на самого Бен Ладена.
– Но это тоже не реально.
– Вот. Таким образом, мы выбьем все костыли у реальности, и она ощутит нечто вроде головокружения, тошноту. Она будет ложиться на кушетку, со страхом ожидая, что сейчас она рухнет в небытие, и она – с нею вместе. (после паузы) Любовь, моя любовь, чувство метафизическое, и Мария должна испытать этот потрясающий основания опыт.
- Мы влюбим ее в разверстость бытия!!!
– А она не может отнестись к этим вареным ракам поверхностно или свысока, не углубляясь в бездны? Просто с теплым юмором, например?
– Не исключено. Но что нам мешает атаковать ее неприступную крепость с другого крыла? У нас еще есть семь писем.
- Мария начнет думать, размышлять, у нее начнут валиться из рук вещи, когда она оденет левую туфлю на правую ногу и пересолит суп, значит – все, она попалась.
- Сударыня, примите мои чистосердечные извинения.
- Глупая шутка, прозвучавшая от имени так называемого «борца
за справедливость» – глупа. Забудем ее. Лучше бы я
подписался Бойс, враг Культуры. На самом деле мы когда-то вместе
учились, Вы в одиннадцатом, а я еще третьем классе. У Вас еще была
лучшая подруга, с которой вы потом, кажется, поссорились. Недавно мы
действительно сидели рядом в театре (шла пьеса Вашего знаменитого
мужа), но Вы не узнали меня: я был тем господином через кресло,
который громче всех аплодировал. Увидев Вас снова, я поразился:
оказывается, все эти годы я только Вас и любил. Это все. Прощайте.
Забудьте.
Р.S. Но Вы меня и не знали.
– А откуда ты знаешь, что у нее была подруга, с которой она поссорилась?
– А-а, у всех были подруги, с которыми ссорятся. Она рассказывала, да я и сам замечал.
– И на что это подействует?
– Она начнет сомневаться: а вдруг тут есть доля правды. А когда человек не видит смысла в настоящем, он начинает искать его в прошлом. А лучшее время – это время нашего становления. Холодный расчет.
– А потом?
– Потом письмо за №7.
- Мария –
- Это имя начертанное
- Губами
- Моими
- На всех
- Площадях перекрестках улиц.
- Мария –
- Так просят пить
- Нищие,
- Потерявшие на войне последнюю ногу!
- Ваш М.
– Это же какое-то издевательство.
– Она должна понять, как это страшно, когда тебе не пишут настоящих стихов настоящие поэты. Это должно ее временно унизить.
– Зачем?
– Чтобы она возжелала подлинности. Кто ей смеет такое писать! И этим изломанным письмом мы подготавливаем следующее, после которого немедленно последует вызов на дуэль.
- Губами
- Мария – дай.
– Нет, Карл, не надо.
– А так как она не умеет драться на дуэли, то эти хлопоты я беру на себя как супруг. Я тебя вызываю письмом №9.
- 9. Каналья!
Будьте любезны явиться завтра в 5 утра на набережную Донау, с секундантами и желательно с врачом. Р.S. Нет, врач Вам не понадобится.
- 10. Простите, но Донау долгий. Укажите номер и выберите марку оружия.
- 11. Донау 100. Баркасы. Оружие за вами.
- 12. Сабли.
– Сцена дуэли:
- Туман над Донау. Зябко. Мы с Марией и сыном. Мои секунданты. Нашатырный спирт для Марии, сын зажимает в кулаке пузырек с зеленкой и бинт (для тебя). Ты появляешься из-за опоры моста в маске, наклонившись немного влево. На тебе костюм киллера. На поводке ты ведешь кошку. За спиной две сабли. Кушаешь черешни. Поклон. Заметно, что ты – женщина. Я начинаю нервно смеяться, мы переговариваемся с Марией: что делать?
- Я: Вы зачем пишете моей жене свои шекспировские письма?
- Ты: Не ваше собачье дело.
- Я: Прошу впредь избавить мою семью от Ваших пошлых шуток.
- Ты: Ха-ха.
- Я: (детям) Пойдемте отсюда, мы еще успеем до рассвета выспаться.
- Ты: Так Вы оказывается еще и трус! Я так и знал(а). (кошке) Муся, сейчас все кончится, мой ангел, потерпи.
- Я: Давайте вашу мою саблю.
- (бьемся, ты падаешь, я рассек тебе плечо) – В это время появляются переодетые в дворников Стоян, Ольга Бригаднова, Килиманджаро и секретарь: что вы сделали с человеком? Это же – человек! (хватают меня, Мария с сыном убегают)
- Сцена вторая: у нас дома: ты лежишь на диване, вся в зеленке. Мария склонилась над тобой, отпаивает тебя ромом. Сын играет с кошкой Мусей.
- Я: Хорошо, что они меня отпустили, эти дворники; у меня – репетиции, куча дел, годовой отчет! (прислонясь к дверному косяку) Как Вас зовут, Усама вы бен Ладен?
- Ты: (слабым голосом, преодолевая боль) Мое настоящее имя было утаено от меня матерью. Но я полагаю, что оно было – Рок–со-лана.
- Мария: Расскажите же теперь, прелестная Роксолана, как Вы меня на самом деле полюбили?
- 12 писем! И ты можешь жить у нас, пока не затянутся раны, а потом свободно гостить, когда тебе захочется.
– О, мой Шекспир!
– О, мой развратный Марло!
23
-
- Но в мире развитого капитализма не так-то просто любить и быть любимым. Даже не просто быть просто чем-то одним.
- Море акул. Того и гляди – окажешься в пасти конкурента. Поэтому любовь = борьба. Нечто героическое. Западные европейцы другой и не знают. Настигнуть и обладать. Если жертва ускользнула, сделать свежий бросок за другой. Я прожила здесь уже 8 лет. Я фагоцирую все, что движется. Я мастер бросков. Я бы сказала, что мне пора бы ставить памятник за выживание. Ну, хотя бы живописать портрет, снять мелодраму. А меня пока берут только на роль статиста. Где справедливость? – как глухо восклицала та девушка из пронзительно нежного фильма «Страна глухих».
- Все глухо и страшно в нашем океане.
- Все глухо и страшно.
- И все страшнее и страшнее.
- И вот – подарок постоянным гражданам благословенного Остеррайха к Новому году: ужесточить наказания за сексуальные преступления против человечности:
- За распространение виртуальной порнографии;
- За просмотр оной до 18 лет и в нетрезвом виде;
- За провоз в трейлерах дальнего следования молодежных компаний автостопщиков, занимающихся в этих трейлерах рефрижераторах сами знаете чем;
- За содержание притонов-гостиниц под марками кафе, творческих и благотворительных клубов;
- За изнасилование в легкой и зловещей формах.
- Т.е. это означает, что синусоида этих типических правонарушений растет. Все благодаря горячих ауслендеров.
- Я не понимаю, почему правительство канцлера Шредера не додумается подмешивать в продукты третьей категории массового спроса понижающий похотливость бром. Что, бром дорог?
- РОКСОЛАНА МИКИТА
- И секретарь
- Но в мире развитого капитализма не так-то просто любить и быть любимым. Даже не просто быть просто чем-то одним.
24
-
- В последний день старого года в Музеумквартир, в том отсеке, где была инсталляция пляжа с шезлонгами и видеопроекция пальмы – такие обманки, которые создают реальность еще более реальную, лишенную теней, лишенную третьего измерения, это пространство до пространства, не психологического, а метафизического свойства, – встретила двух мальчишек из Падуи. Приехали в Вену. Итальянцы вообще очень любят справлять Новый год в северной Вене: тут снег, тут чуть ли не ходят по улицам низкорослые северные олени с коралловыми мшистыми рожками, в декоративной шкуре из унт. Да и город сам, покрытый инеем, представляется замороженно-сказочным призраком огромной трески, лежащей в пиках льда, поблескивающей чешуйками. Промерзнув, хорошо нырнуть во внутрь кафе, побродить по выставке.
- Алессандр и Дженио из Падуи так и поступили.
- Но галерея была уже убрана, ничего нет, кроме сидящей на кубе меня и читающей, покачиваясь от удовольствия, 73 стр. этой повести.
- – А, что же, – сказал Алессандр. – Ничего здесь нет?
- Мы быстро нашли общий итальянский язык:
- – А как же я?
- Подошедший тут секретарь прикрепил Дженио на скоч к стене, расставив ему руки-ноги звездой, обрисовал окурком круг: мол, не успели приехать из итальянского сапога, а уже стали объектами похожего на аппендицит остеррайховского искусства.
- Общая тема тоже нашлась: Алессандро бросила в Падуе сладкая девочка Люччия. У него выйдет скоро книга стихотворений в прозе, он показал в качестве примера свой интимный блокнот:
- Красота – вещь, которая самоуничтожается в себе самой, это ее вызов, который мы можем принять лишь ценой умопомрачительной утраты – чего? – того, что ею не является. Без остатка поглощенная ухоженностью, красота заразна и заражает мгновенно, потому что в своей избыточности уходит из себя самой, а всякая вещь, исступившая из себя, утопает в тайне и поглощает все окружающее.
- Эти глаза случайно оказались против вас, но вам кажется, они глядят на вас уже вечность. Взгляды лишены смысла, такими нельзя обменяться со значением. Никакого желания здесь нет. Потому что желание не знает очарования, а эти глаза, эти непредвиденные видимости, овеяны им, и чары эти сплетены из чистых, вневременных знаков, обоюдоострых и лишенных глубины.
- …никакого зазора, никакого законного срока между знаком и его разгадкой. Ни веры, ни дела, ни воли, ни знания: ему чужды эти модальности дискурса, как и четкая логика высказанного и высказывания. Это очарование всегда сродни возвещению и прорицанию, такому дискурсу, чья символическая эффективность не подразумевает никакого разгадывания или принятия на веру.
- У смерти нет плана. Случайность она исправляет не менее случайным жестом, таков ее метод – и однако все должно исполниться. Нет ничего, что могло бы не исполниться, - и однако все сохраняет легкость случая, украдкого жеста, непредвиденной встречи, нечитаемого знака. Как покатит – в этом весь соблазн.
- Карл укатил обратно в Кроатию, а итальянским поэтам негде было справлять Новый год. Я подсказала им на набережной Донау уютную дискотеку, нарисовала на карте кружок. Мы с Ольгой Бригадновой ночью туда идем (ее друг тоже в бегах), договорились там встретиться. Надо еще купить на сувенирных лотках звезд, трубочистов, стеклянного Инге котенка, бутылочку да Винчи для секретаря, помыть голову, сказать с легким паром иронии судьбы.
- В полночь вместо часов-курантов мы видим раскачивающийся колокол:
- бом-м бом-ммммм бом-ммммммммм
- бом-мм бом-мммммм бом-мммммммммм
- бом-ммм бом-ммммммм бом-ммммммммммм
- бом-мммм бом-мммммммм бом-мммммммммммм
- бессмертная пауза
- меня не будет а пауза будет греметь
- пока я современник этого бездонного грозящего новым временем бома
- он взывает ко мне – обо мне
- душа немножко в пятках как у Э. Поэ с похмелья
- бомба бома
- амба
- врач сказал что у меня железа недостаточно
- легкая анемия
- на что это они намекают паразиты
- надо есть землянику
- вот и Бергман приехал с ретроспективой
- надо будет посетить Земляничную поляну
- испугаться часов без стрелок
- вскрикнуть посреди зала
- Мэтр подумает: пустяк – а действует и поныне
- придет еще целоваться
- скажет:
- повелеваю, чтобы все стало, как прежде!
- Полупрозрачность, подвешенность, хрупкость, изношенность – отсюда настойчивое присутствие бумаг, писем (обтрепанных по краям), зеркал и часов, истершихся и устаревших знаков какой-то канувшей в повседневном запредельности – зеркало из бывших в употреблении досок, на которых узелки и концентрические линии заболони отмечают время, что-то вроде стенных часов без стрелки, оставляющих только гадать, который час: это уже отжившие свой срок вещи, уже имевшее место время. Единственное, что придает им рельефность, - анахроничность, скрученная в инволюции фигура времени и пространства.
- Смерть – не объективная участь, но свидание. Она сама не может не явиться на него, так как она и есть это свидание, т.е. намеченное совпадение знаков и правил, составляющих игру. Сама смерть – лишь невинная участница этой игры: отсюда тайная ирония рассказа. Без этой иронии рассказ ничем не отличался бы от какой-нибудь нравоучительной апологии или же популярной иллюстрации инстинкта смерти, с нею – воспринимается как остроумная находка и разрешается в возвышенном удовольствии. Остроумие самого рассказа вторит жесту-остроте смерти, и два соблазна – смерти и истории – сливаются воедино.
- Я подарила Алессандру свои записки, несколько страничек, казавшиxся мне потерянными, но оказавшиxся сохраненными на дне сумки (французское письмо на итальянском – все о Карле, который теперь далеко. Карл их так и не читал… что ж, пусть их прочитает другой избранник):
- Сейчас она стоит перед ним, перед его дикими глазами и видит, как с грохотом падает огромный занавес ее никем не увиденного спектакля. Он рвет его вниз. Тяжелую материю своим крошечным мизинцем. Может быть, это месть за то, что я не пригласила публику. Но он же лучше себя чувствует с огромными плюшевыми игрушками – знает она по его рассказу, – и она бы тоже сшила ему огромного медведя.
- Они оба стоят в ярости и целуют друг друга взглядами. Тогда он бросает ей в грудь бомбоньер будто бомбу и приказывает ей есть карамельки (это конфеты, она обращает ему внимание на то, что он не знает немецкого), при этом говоря ей, что никогда не будет ее рабом. Только недавно ей хотелось быть его тысячью рабами, чтобы он с ее помощью мог построить пирамиду! Пирамиду чего? Разве это важно? Просто пирамиду! «Я уже искупил свою ошибку в Венском лесу» – говорит он ей. Она плакала тогда в его руках на руинах своего сожженного театра и он не восстанавливал другого. Он не знал, что новый театр можно поставить и на шатком грунте без фундамента. Он мог ей сказать, что он с таким удовольствием посмотрел бы ее спектакль и сорвав маленький цветок бросил бы его к ее ногам. Он лежал затоплен ее запросами и злился, что она читает его записки, так как от ее текста остались лишь клочки. Она попросила его похлестать ее ремнем, чтобы не чувствовать черной боли от оскверненных букв. Чтобы описать пустую страничку сильным ударом. Он ударил ее нежно, и его ударов не хватило даже для короткого стишка.
- Мимо проезжает корабль. Быстро и громоздко в этом дунайском канале. Она замечает лишь несколько скучающих лиц, которым ей хочется прокричать «смотрите сюда. На моего гладиатора на арене любви». Он также снимает и делает постановки. Она не может понять, почему не ставят его? Его трехминутное курение гораздо увлекательнее, нежели скучные спектакли в театрах. Она бы каждый день платила 5 евро за спектакль его курения. Кому бы это доказать, если он сам этого не понимает.
- Она не знает, как пахнет Цюрих в его присутствии. Он ей ничего об этом не рассказывает. Ей хотелось бы дышать его шкафами, полками, посудой. Как ты выглядишь на фоне Цюриха? – хочется его спросить. Она видит себя следящей за его шагами. Любят ли его дома? А швейцарские собаки? Она не знает запаха этой истории с ним. Воздуха города, которым он дышит. Даже если он считает это все глупыми романтическими замашками, она знает, что все пахнет по-другому, когда он проходит мимо.
- Он ее универс. Мир эротики и мир мысли. Да это редкое, почти невозможное сочетание, но оказывается, оно может встречаться. Он материализация мысли и одухотворение вещи. Он ее сгусток желания, занимающий все пространство ее мысли и тела. Она может гладить и слушать его часами, он поэзия для ее прикосновения, он эпос для ее слуха.
- Ей нравится заниматься с ним любовью везде: на жестком полу, под тесной кроватью, в туалете для инвалидов, на кладбище, в церкви. Ведь от любви двух тел (или двух желаний) и пошел генезис, и она только продолжает традицию.
- Он целует ее туфли, потом лифчик, кусает одежду. Иногда медленно его тело рифмуется с ее телом, иногда это лирика, которая читается пафосно и страстно. Их тела – это игра желаний на волнах и тверди.
- Она также собака и свой нос она использует. Она любит обнюхивать Карла. Носокультурологически обследовать и наслаждаться. Она путешествует по всему его телу, и даже немытые волосы становятся букетом для ее большого носа.
- Однажды в Италии, в далекой Калабрии, ее пригласил в гости один продавец из книжного магазина. Они долго нюхали книги: столетнего Манцони, еще более старого Леопарди и даже сравнительно нового Фосколо… Джованни, а так звали этого толстенького, добродушного итальянца, называл ее пинокьетто, т.е. буратино. Он даже и не подозревал, что у нее есть свой папа Карло, который ее тоже из чего-то вытесал. Из монструозного куска одиночества ?
- Его выброшенный чемодан, не понятно почему, находится у него в бюро. Комнату его тоже бюро не назовешь, это крохотная комнатенка трех метров, заставленная книгами и столом. Над столом целое собрание отксеренных картинок. Наверное, ни один музей не повесил бы столь разные шедевры.
- И вот она приходит к своему анахорету любви в этот изолятор, садится ему на колени и здесь (эта комната имеет какие-то совершенно неопознанные еще эротические стимуляции) они начинают любить друг друга. Да, на сцене идет спектакль (у него все время громко включена прямая трансляция), а у них, в их маленьком амфитеатре идет приношение тел богам страсти. Им не нужны зрители, их аплодисменты все равно сливаются с их оргазмами.
- Иногда ей на голову что-то падает. Ничего страшного, если это Витгенштейн (кажется, слова «каждый сам ответственен за свой оргазм» принадлежат ему), гораздо страшнее, если это кто-нибудь из современных дизайнеров в своих тяжелых глянцевых альбомах.
- В последний день старого года в Музеумквартир, в том отсеке, где была инсталляция пляжа с шезлонгами и видеопроекция пальмы – такие обманки, которые создают реальность еще более реальную, лишенную теней, лишенную третьего измерения, это пространство до пространства, не психологического, а метафизического свойства, – встретила двух мальчишек из Падуи. Приехали в Вену. Итальянцы вообще очень любят справлять Новый год в северной Вене: тут снег, тут чуть ли не ходят по улицам низкорослые северные олени с коралловыми мшистыми рожками, в декоративной шкуре из унт. Да и город сам, покрытый инеем, представляется замороженно-сказочным призраком огромной трески, лежащей в пиках льда, поблескивающей чешуйками. Промерзнув, хорошо нырнуть во внутрь кафе, побродить по выставке.
25
«Если ты еще будешь с кем-то спать,
то только не в туалете для инвалидов»
Карл
Это эпиграф ко всему компендиуму.
- Вместо первоначального из сибирских записок
Достоевского:
«Ты меня дерзнул»
- С Нового года Херберт (муж мой) перестал меня
субсидировать (давать деньги). Принес вечером стакан супу и салат
оливье без колбасы, с каким-то жидким майонезом, с кукурузой:
суточная порция, чтобы мне не умереть с голоду. Я призадумалась,
никогда не думала, что так может все для меня обернуться. И по
телефону теперь не позвонить, и за квартиру он платит. Я что, кошка,
у которой нет карманов, чтобы гулять без денег? Он бы еще поставил
миску в угол, налил бы туда кварту молока.
- Завидует. Все мне завидуют. Я отравляю всем существование, что они не такие, как я. Не в том, смысле, что они хуже, а именно не такие. Нет, они-то - такие, это я – другая.
- Винченция Попова прислала через Ольгу Бригаднову из Швейцарии письмо: «радуюсь, что вы такие богатые, яркие, симпатичные». Да, другой всегда уже виновен, за то, что он –
- д р у г о й.
- Желание понять, полюбить и стать и м.
- Но другой уж тут как тут: э, нет, это моя другость – вырабатывай отличную!
- А как только выработаешь отличную – други уже рады объявить тебя недругом. Написать буллу.
- Совершенно тварная диалектика у человеческого ума.
- Только Карлу, кажется, нравится эта бесконечная игра в другость. Встанет на колени, когда голый, я говорю ему: гавкай! – и гавкает. Гавкает в метро. Еще у него хорошо блеять получается. Да, другой бы за одно это его возненавидел. Застрелил бы на улице, как Улафа Пальме.
- Я бы хотела часто умирать, я бы хотела, чтобы мы все умирали чаше, как можно интенсивнее и чаще, чтобы ценить друг друга ярче.
- У него тетя на Новый год умерла, прямо в магазине BILLA.
- – Жалко, – говорит, – что я раньше ее игнорировал. А она мне по завещанию оставила счастьенесущего слона!
- Завидует. Все мне завидуют. Я отравляю всем существование, что они не такие, как я. Не в том, смысле, что они хуже, а именно не такие. Нет, они-то - такие, это я – другая.
26
-
- – Если бы я умер, ты бы из меня сделала легенду?
- – Из тебя легенду – уже поздно, ты уже миф, не легенда, ты устоявшийся герой. Я бы сложила про тебя песню скальда и пела бы ее в подземном переходе.
- – За деньги?
- – За деньги.
- – Но я еще не собираюсь умирать.
- – Да, ты не собираешься умирать, но ты конченный человек.
- – Может быть, кончающий?
- – Ты конечный, конченный человек.
- – Что на тебя нашло?
- – И пусть тебе заново приснится то кино, когда ты меня поцеловал.
- – В «Незабываемых звездах».
- – Седьмой ряд, девятое кресло.
- – Это было девятое кресло, которое потрясло мой мир.
- – А ты, Карл, ведь в душе киномеханик!
- – С чего ты взяла?
- – Ты киномеханик, ты увидел меня тогда в окошечко и вышел из рубки.
- – С какой стати?
- – Ты уже знал все кино! Все перипетии и склейки!
- – Конечно, я смотрел.
- – Ты конечный человек, Карл. Ты конченная историческая и художественная личность!
- – Допустим. Что в этом не так?
- – Ты не человек-мессия!
- – Гм.
- – Возможно, ты даже и не киномеханик!
- – Интересно.
- – Ты просто зритель, Карл, ты обыкновенный зритель, пришедший в кино за шесть долларов за наслаждением!
- – Вообще-то я предъявляю документ и хожу бесплатно.
- – Ты увалень судьбы, Карл, ты баловень рока!
- – Всё так.
- – А в это время, недалеко отсюда, в России, Саша Скидан пишет, превозмогая внутреннюю боль:
- «Мессия придет только тогда, когда необходимости в нем уже не будет; он придет в день после пришествия – не в последний день, а в самый последний.
- Всего лишь слово, всего лишь молитву, всего лишь вздох, всего лишь подтверждение тому, что ты еще жив и ждешь. Нет, не надо молитвы – всего лишь вздох, даже не вздох – всего лишь присутствие, даже не присутствие – всего лишь мысль, даже не мысль, а просто покой сна.
- Блуждание имеет своей целью пустыню, и ее приближение становится отныне новой Землей Обетованной.
(…) Если наши представления о хронологическом времени как времени, в котором мы находимся, отделяют нас от нас самих, превращая нас как бы в бессильных зрителей себя самих, которые, не имея времени, лишь глядят и глядят на бегущее время, на свою непрестанную нехватку себя самих, – то мессианическое время, как время оперативное, в которое мы схватываем и исполняем наше представление о времени, есть время, которым мы являемся, – и потому единственное реальное время, единственное время, которое мы имеем.
- Я совершенно определенно пишу это из-за отчаяния по поводу моего тела, по поводу будущего этого тела.
- Я не могу разжечь костер, я не знаю молитвы, я не могу уже отыскать место в лесу, я не могу даже рассказать историю. Все, что я могу сделать, это рассказать, что я не могу больше рассказать эту историю. И этого должно хватить.
Как только бесклассовое общество было определено как бесконечное задание, пустое и гомогенное время тут же превратилось, так сказать, в приемную, где более или менее спокойно можно было ожидать наступления революционной ситуации. В действительности же нет ни одного мгновения, которое не обладало бы своим революционным шансом – надо только понять его как специфический, как шанс совершенно нового решения, предписанного совершенно новым заданием. Революционный мыслитель получает подтверждение своеобразного революционного шанса исходя из данной политической ситуации. Но не в меньшей степени подтверждением служит ключевой акт насилия мгновения над определенным, до того запретным покоем прошлого. Проникновение в этот покой строго совпадает с политической акцией, и именно этим проникновением акция, какой бы разрушительной она ни была, дает знать о себе как о мессианской.
- (…) Зажатый между пророчеством и переживанием. Все время помнишь, что это произойдет, а происходит единственно то, что ты должен об этом вспоминать. И этого «должно хватить». Должно хватить даже того, что помнишь, что должен об этом помнить. Должно также хватить и того, что помнишь, что более этого не помнишь. Должно хватить, чтобы сберечь бесконечное и ожидание.
- Сферой мессианского является не конец времени, а в р е м як о н ц а».
- – Лана, перестань паясничать; да, Сашино письмо вызывает во мне жажду безмолвия, но это вовсе не значит, что я должен быть несчастным: ты же знаешь, я никому не завидую в художествах.
- – Потому что у тебя не хватает воображения.
- – Что ты он меня хочешь?
- – Карл, иди к черту. Я хочу, чтобы ты был самым лучшим.
- – Я не мания величия и не хочу быть игралищем твоих пустых, суетных и дерзких апломбов.
- – Ты пошляк и обыватель.
- – Хорошо: давай я для тебя выпрыгну из окна.
- – Прыгай. Тебе уже ничто не поможет.
- (открывает окно и прыгает, через минуту входит через дверь)
- – Ну, довольна?
- – Вот это уже теплее. Теперь сними для меня трусы.
- – Что, прямо здесь?
- – Разумеется.
- (снимает под столиком трусы)
- – Возьми, пожалуйста.
- – Уже горячо. Теперь подойди к тому лысому господину, дай ему по голове и попроси за нас заплатить.
- – И ты считаешь, что от этого я сразу стану человеком-мессией?
- – Нет, я просто испытываю твои пределы.
- – Будем считать, что снять трусы – это мой предел, за который моя способность к трансгрессии не распространяется.
- – Ладно, Карл, извини, спасибо тебе и на этом.
- – Если бы я умер, ты бы из меня сделала легенду?
27
-
- а Саша мне подарил в Питере «Сопротивление поэзии» с надписью: Лане, сестре по украинской степи.
- а Саша мне подарил в Питере «Сопротивление поэзии» с надписью: Лане, сестре по украинской степи.
28
-
- Париж. Какая-то широкая улица с бульварами. Это и есть Елисейские поля? Да, точно: другой масштаб. В марте каштаны еще зимние, не закрывают перспективу. Триумфальная арка только немного зеленеет вдали. Относительная прохладная суета. Витрины с французскими поющими буквами «ля галери». Монмартр. Бурная Cена. Кипят волны под быками какого-то знаменитого моста. Ночью мост сделан из яркого хрусталя. Оранжевая подсветка Набережных. Голубые линии трасс. Нотр-Дам. Чудовищный скелет контрфорсов на задворках Нотр-Дама. Конструктивная лангуста, держащая христианский оплот. Азиатская декоративность неприступных стен. Две башни-бойницы. Но какой детский чистый звонкий радостный колокол! Згинь! Вдруг грозный Леонардо смотрит темным лицом Иоанна Крестителя, нежно улыбается девичьими губами без усов. Пальцем намекает на небо. Вдали узоры гор с водопадами спермы. Джиоконда, как Ленин, в безопасном саркофаге – культ личности в искусстве, строит майстеру глазки (мордочка снята издалека, кинокамера дрожит, Джиоконда как живая). Буше. Большие эротические гармонические полотна. Задержка внимания на ягодицах в будуаре. Такое ощущение, что Буше и де Сад – одно и то же лицо, и годы жизни почти совпадают. Мелькнул Корот (Коро). Ватто. Ника Самофракийская без головы (голову ищут до сих пор, но это искать иголку в океане), крылья как бы обтрепаны временем, словно их когда-то действительно распушал, трепал ветер поражений и побед. Далее через окно камера уходит во двор Лувра, на призму-пирамиду, словно тоскующую своей привиденческой прозрачностью о горячей тени Наполеона. Но съемки плывут в демократическом ручье (ключе): на ветках шарообразных каштанов – полиэтиленовые кульки – флаги общества потребления. Поезда метро из пяти вагонов. Гармонист в кепке «Москва 50-х» наигрывает вальсок. Конструкция Эйфелевой башки на могучих болтах. Луна с объеденным боком над кривой улочкой. Одинокая звезда. 12-14 марта 2001 года. Окно поезда трогается на Восток. Восвояси в Вену.
- Это художественное видео в Оттакринге, в галерее, смотрела и узнавала свой Париж. Странно: тогда еще не знала о существовании Карла – и видео тоже несет ту же нагрузку: чего-то не хватает, кинокамера в слепом поиске, словно заблудившийся в городе ребенок… Художник похвастался, что снял это без склеек (клеил прямо в голове), оно и понятно: нет монтажного столика.
- Париж. Какая-то широкая улица с бульварами. Это и есть Елисейские поля? Да, точно: другой масштаб. В марте каштаны еще зимние, не закрывают перспективу. Триумфальная арка только немного зеленеет вдали. Относительная прохладная суета. Витрины с французскими поющими буквами «ля галери». Монмартр. Бурная Cена. Кипят волны под быками какого-то знаменитого моста. Ночью мост сделан из яркого хрусталя. Оранжевая подсветка Набережных. Голубые линии трасс. Нотр-Дам. Чудовищный скелет контрфорсов на задворках Нотр-Дама. Конструктивная лангуста, держащая христианский оплот. Азиатская декоративность неприступных стен. Две башни-бойницы. Но какой детский чистый звонкий радостный колокол! Згинь! Вдруг грозный Леонардо смотрит темным лицом Иоанна Крестителя, нежно улыбается девичьими губами без усов. Пальцем намекает на небо. Вдали узоры гор с водопадами спермы. Джиоконда, как Ленин, в безопасном саркофаге – культ личности в искусстве, строит майстеру глазки (мордочка снята издалека, кинокамера дрожит, Джиоконда как живая). Буше. Большие эротические гармонические полотна. Задержка внимания на ягодицах в будуаре. Такое ощущение, что Буше и де Сад – одно и то же лицо, и годы жизни почти совпадают. Мелькнул Корот (Коро). Ватто. Ника Самофракийская без головы (голову ищут до сих пор, но это искать иголку в океане), крылья как бы обтрепаны временем, словно их когда-то действительно распушал, трепал ветер поражений и побед. Далее через окно камера уходит во двор Лувра, на призму-пирамиду, словно тоскующую своей привиденческой прозрачностью о горячей тени Наполеона. Но съемки плывут в демократическом ручье (ключе): на ветках шарообразных каштанов – полиэтиленовые кульки – флаги общества потребления. Поезда метро из пяти вагонов. Гармонист в кепке «Москва 50-х» наигрывает вальсок. Конструкция Эйфелевой башки на могучих болтах. Луна с объеденным боком над кривой улочкой. Одинокая звезда. 12-14 марта 2001 года. Окно поезда трогается на Восток. Восвояси в Вену.
29
-
- А моего секретаря наградила Винченция Орденом Победы. Я хотела выпросить у него поносить Орден. А он говорит: нет, у меня и так ничего нет, не отнимайте у меня последнего. Ну, теперь на работу не дождешься, будет обмывать победу, пока не пропьет и сам Орден вместе с футляром.
- А моего секретаря наградила Винченция Орденом Победы. Я хотела выпросить у него поносить Орден. А он говорит: нет, у меня и так ничего нет, не отнимайте у меня последнего. Ну, теперь на работу не дождешься, будет обмывать победу, пока не пропьет и сам Орден вместе с футляром.
30
-
- Килиманджаро совсем ошалел. Начал агрессивную атаку. Признался в любви. Это – раз. Требует от меня ответа: да или нет – это два. Что мне делать?
- Да – это с ним спать (а я еще и не целовалась).
- Нет – не возьмет на Килиманджаро (или задушит там).
- А я уже прививки сделала (от мухи це-це и болотной лихорадки).
- Говорит: ну, что тебе – Карл? Видишь, как он себя ведет. А я бы любил тебя так, что тебе бы никакого Карла не захотелось.
- – А ты люби меня платонически.
- Килиманджаро: нет, я тебя желаю по-настоящему, как любовник! Ты же знаешь, у меня никого нет, я один, мне нужно разбить мое одиночество.
- Да, эти мужики. Обязательно нужно испортить отношения и начать немедленно сексуально обладать.
- Ответь, говорит: если нет – я буду искать другую: время уходит!
- Я говорю: я подумаю…
- Он: нет! Мне нужна определенность, никаких уловок, никаких смутностей: или – или.
- Завтра нужно принести окончательный ответ.
- Позвонила секретарю Сереже: такое вот положение.
- Или тяни время, говорит, или отдавайся без поцелуев, или плюнь на Килиманджаро, а прививки, мол, тебе летом пригодятся и здесь.
- Хороший совет.
- Может быть посоветоваться сегодня с Карлом?
- Он опять скажет: только не в туалете для инвалидов и не делай ему того, что делаешь мне.
- Какой-то тупик.
- Одеть маску? Представлять, что это Карл?
- Когда целуешься с совершенно незнакомыми, как бы абстрактными людьми, то это получается – представлять.
- Килиманджаро же оригинальный уже, реальный.
- Может быть, свести их вместе, и пусть Карл побеседует с ним, уговорит его во имя моей любви меня не трогать.
- Килиманджаро веско скажет: а я тоже – люблю, черти вы эдакие! И – покруче!
- А до восхождения остается еще три недели.
- Голова болит от этих прививок, от этого клубка возможностей-неопределенностей, от этих пересечений индивидуальных воль и желаний – как от деревянной гравюры с изображением побоища; как от четырехстроронних турецких шахмат, где проигравшему снимают голову с плеч…
- Уснуть – и все забыть, уснуть – и все – забыть, уснуть – забыться и – забыть, забыть, забыться бы забыть забыться и забыть быть бы и все забыть
- Если бы не бы
- Если бы не бы
- Мне б надо было мало:
- Кусочек хлеба
- Да каплю молока
- Да это небо
- Да эти облака
- Молилась весь день, чтобы небо послало чудо: чтоб никогда, никогда, никогда не наступило з а в т р а !
- Килиманджаро совсем ошалел. Начал агрессивную атаку. Признался в любви. Это – раз. Требует от меня ответа: да или нет – это два. Что мне делать?
31
-
- Нет более зажатых особей, чем мужики, нет больших индивидуалистов, чем бабы.
- Немножко помечтаем на эту тему.
- У мужиков на уме одно: всластвовать! Это постоянная погоня за успехом – психологическим, материальным, символическим, физическим. Если он приближается к одной из этих вершин, ко всем одновременно, он – мужественный человек. Если нет – он как бы вообще не считается за человека, он недочеловек, презираемый ублюдок, увалень, пентюх, паразит Творца. Что ты сегодня сделал? – законный вопрос для м.
- Для б. такой вопрос скорее факультативный: что ты сегодня сделала? – Конечно, н и ч е г о! – А что ты делала?
- – Наслаждалась собой!
- Самодостаточность ж.п. освобождает б. от борьбы-работы по линии господства. За все, что борется б., сводится к нехитрому набору инструментов, с помощью которых осуществляется самосохранение.
- За красоту, например. Мультимиллиарды долларов в год уходят единственно на поддержание этого экзистенциала: быть красивой.
- Но, конечно, куда большая доля валового национального продукта (ВНП) уходит на экзистенциал власти: быть сильным.
- Красота и сила – больше мир не озабочен ничем.
- Нет более зажатых особей, чем мужики, нет больших индивидуалистов, чем бабы.
32
-
- Наступило з а в т р а, и, что же вы думали? Да, совершенно верно, наивный мой читатель, я отдалась.
- Не спросившись Карла, не прислушавшись к интуиции.
- Как это случилось?
- Я не помню.
- Что-то было подмешано в вино (не даром он написал полдюжины книг рецептов на все случаи жизни). Я проснулась с двумя во мне презервативами, полными какой-то мутной зеленой жидкости, скорей принадлежащей к сперме суккуба, чем к прозрачной матовости человеческого одухотворенного оргазма.
- Никого уже не было. На столе записка: Джомолунгма.
- Я подошла к окну. Там стоит оттепель. Снег съезжает с крыш. Цокают в упряжке две, словно навощенные, лошадки, катят кабриолет, карету, зарабатывать себе на сено, возчику на сигары и котелок. У Сислея есть что-то похожее: Елисейские поля под февральским дождем. Ну, не у Сислея, так у Моне. У Мане. Я не искусствовед ведь, не искусствовед. Серовато. Нет, Моне другой. Это у Писарро серое переливается всеми оттенками драгоценностей, а чувство бесконечного ливня, павшего на райские поля, миражирует и без того наполненный влагой глаз. Эпоха импрессионизма.
- Главное, что я ничего не запомнила, и ничто в душе не отпечаталось как след, который следовало бы стирать или растравлять. Чтобы были и волки сыты, и овцы целы, как советовал вчера секретарь. Так и получилось.
- Джомолунгма. Какое бессмысленное слово. Только бессмысленные слова могут вселить трепет. Это все, что осталось: Джомолунгма.
- Никому не скажу, скажу: пала жертвой неуловимого злодея, бутылочного джина, подлого оборотня… и под ясным солнцем злые чары развеются, ибо истинную природу мою омрачить ничем нельзя!
- Наступило з а в т р а, и, что же вы думали? Да, совершенно верно, наивный мой читатель, я отдалась.
34
-
- Читатель!
- Суккуб с инкубом приходили и оставили свою гремучую сперму под завесой сна, не подарив мне ничего, кроме чувства бессилия. Это голодные духи, для которых душа человека это горшок с кипящей кашей, которую они хотят пожрать, но когда она горяча, они дуют, суются мордой и в бешенстве отпрыгивают. Но лишь погаснет огонь под горшком – спасенья нет.
- З а в т р а наступило только сегодня, и я рассказала взволнованно о своем жутком сне Килиманджаро. Кто-то нечеловеческий обладает мною в моих кошмарах – мне страшно и бездно, защити!
- Килиманджаро подумал: сказал, что навестившие меня инкубы (суккуб – дух женского пола) ему известны, он поработает с ними – «Говоришь, их было двое? И всех их звали Джомолунгма? Это еще те сексоманы, от них так просто не отвертишься. Они теперь будут приходить, повадятся. Это я виноват. Это мои неотвязные духи странствий по запредельному. Ишь ты какие! Перебросились! Но на Килиманджаро мы найдем тебе защиту, заговорим, привалим камнем. Ты пока тренируйся, увеличь нагрузки на спину, и икроножная мышца пока у тебя слаба. А с этими инкубами мы разберемся, милая Ланочка. Мы их заставим трахать суккубов – вот уж они взмолятся, суккубы!»
- Головную боль, как рукой сняло, я ожила. В метро изучала карту Килиманджаро.
- Читатель!
35
-
- Но главное – нужно разносить горные ботинки. Килиманджаро купил за 250$. Каждый весит 3 кг! Если сейчас не разносить, может случиться беда: сотрешь ногу – будешь сидеть в палатке. 43-ий размер, чтобы со стелькой и носком. Потом на них одеваются шипы. Там может подвести любая не продуманная на земле мелочь. Еще поджидает страх высоты: хоть там и не будет пропастей, но чем выше в небо, тем на душе унылее и холоднее, может просто возникнуть страх отхода, страх удаления.
- Килиманджаро уже и спальник купил, и ледоруб, и шапку, и куртку, и нижнее высокогорное белье со специальными утеплителями и т.д. 1300$ стоимость одной амуниции. Т.е. риск не для бедных людей. Адреналин и мифология всегда стоят дорого.
- Из Маранги – через Мандару – Хоромбо – в Кибо. Из Кибы - 8 часов на вершину, 3 – обратно. И на Вершине – час пятнадцать на общение с духами.
- Будем спускаться ночью, с фонарями.
- Уже трясутся ноги.
- Но дойдет до дела – все будет о кей!
- Буду вести тетрадь приключений.
- С нами идет литератор из Америки, говорит, что уже запасся пятью тетрадями. В одной – психология, другая – фауна, флора, третья – сновидения в разреженном воздухе, четвертая – письма с вершины жене, пятая – письма человечеству (для журнала).
- Последние приготовления, последние сны.
- Надо все разобрать, во всем разобраться, отдать долги, сказать последнее прости.
- Сделала ревизию электронным сообщениям Карла, своим ответам. Факт остается фактом: он меня любил, я его любила.
- «Ты крылатая кровь моих вен пускай боги простят мне мое счастье!» – не слабо.
- «Ну и что, мы прощаем нам то, что мы прощаем, и шепчем и поем о любви!»
- «Я люблю тебя как грушевое дерево луну!»
- «Я люблю тебя как любит яблоня солнце и землю!»
- «Я горю от любви как православная елка!»
- «Моя вершина любви Эверест! Я целую тебя!»
- «Я целую тебя! Мое дно океана любви! Мое бурлящее дно вершины тихого океана, я целую каждую песчинку и твою рыбу так, что она становится твердой, я целую твою рыбу твердости в высоту, я целую, пока она не отвердеет в высоту. Брызг-бразг!»
- «Мой член танцует твердый вальс в твоем животе!»
- «Твоя драгоценность в моем цветке лотоса!»
- «Моя мушик отдается твоей дирижерской палочке в опере, где твой фагот мой единственный Гот, твой языковой вирджинал (вид клавесина) – единственный, кто имеет слово для моей вагины»
- «Люблю тебя звезда звезд!»
- «Я опускаюсь в тебя и сплю между кораллов твоей любви!»
- «Но, дорогой, это мое место!»
- «мы спим друг в друге и я пью каждую кораллинку твоей крови, души, духа и члена!И ты это позволяешь!»
- «Моя кровь, ты несешь меня к вершинам!»
- «Ты красивая святая, я вдыхаю аромат твоих волос и ищу тебя везде!»
- «О, ты, мой порнографический Иисус, я нахожу тебя везде, и даже в желторотой лампочке в туалете!»
- Порнографический: имеется в виду эротический, высоко эротичный – это самое высшее, когда все стоит и когда всегда хочется, и когда все возбуждающее, окрепшее, крепленое. Когда член раз – и окрепенился!
- Да, он монстр секса, кроватный Титан.
- И говорит, и говорит, и вынослив.
- Как же мне тебя будет не хватать!
- «Твое лицо, мой тихий огонь, который меня всегда и везде приводит к безумному разуму!»
- «Моя пиздатая душа поет волны тоски в океане любви! О, мой Олимп, наполни меня нектаром!» – о, Господи, что я пишу!
- «Я брызгаю полноту в тебя, мой красный апельсин, и пою к этому громкие песни любви собственного сочинения!»
- Жаль что электронные сообщения не проходят в Вечность, а функционируют лишь как производственные записки для внутреннего пользования. В них много можно было бы почерпнуть божественной глупости, святой простоты, упрямой наивности, безответственной пошлости, нецензурированной нежности, бессмысленного присюсюка, поэтического дилетантизма, высокопарного похуизма.
- Килиманджаро преподнес новые стихи, теперь под Рембо:
- Но главное – нужно разносить горные ботинки. Килиманджаро купил за 250$. Каждый весит 3 кг! Если сейчас не разносить, может случиться беда: сотрешь ногу – будешь сидеть в палатке. 43-ий размер, чтобы со стелькой и носком. Потом на них одеваются шипы. Там может подвести любая не продуманная на земле мелочь. Еще поджидает страх высоты: хоть там и не будет пропастей, но чем выше в небо, тем на душе унылее и холоднее, может просто возникнуть страх отхода, страх удаления.
МАТРОСЫ
В одиночестве
- Проходя горизонт
- За чертой, где рождается
- Вожделение и любовь
- В одиночестве
- Под (неразб.) грубых парней
- Среди боль скрученных гангстеров
- В одиночестве
- На море и на суше
- В каюте под палубой
- В домах-борделях
- Они поют метрономом
- Та, Та, Татам
- И это пение это одиночество
- Которые не выводят татуировок
- Которые не испаряют рома
- И не знают цвета восхода утра –
- Та, та, татам.
- Будем на Килиманджаро петь вокруг примуса-спиртовки.
- Та, та, татам!
- Все, что мне нужно – это доброе слово, теплая постель и неограниченная власть.
- У человечишки все должно быть прекрасненько: и душонка, и мордочка, и тельце, и мыслишки.
- Хочешь, не хочешь, а хотеть надо.
- Каждый человек по-своему прав, а, по-моему, нет.
- Мысли у моря не стоит высказывать у реки.
- Есть три типа людей: те, кто умею считать и те, кто не умеют.
- Раньше был шизофреником, но теперь с нами все в порядке.
- Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает.
- Очередь, увидев меня, весело завиляла хвостом.
- Перед тем, как сказать что-то умное, медленно досчитайте до 10.
- Муравьи бывают черные и рыжие; нам-то пофиг, а они насмерть бьются.
- Колобок достает из зуба кусочек лисицы и думает: что-то здесь не так.
- Лучше нас потом простят, чем сейчас не заметят.
- В горах мне остроумие потребуется. Так пилотов космических кораблей снабжают сборниками анекдотов. Чтобы не отрывались от действительности, смешили друг друга в разверстом космосе неожиданной подъебкой.
- Карл принес руководство, как вести себя в горах.
- «Без нужды не отдаваться. Морозом прихватит – будет не оторвать».
- Да, –15. И ветер. Я уже тренирую дыхательный аппарат: открываю дома холодильник и дышу из него, индевею.
- «Не говорить на восхождении: подождите меня, я схожу пописать».
- Интересно, а как же быть?
- «Кружку спирта передавать стоящему от тебя слева, а не тянуть ее самому красивому джентльмену».
- Хороший совет.
- «Не восхищаться красотами, словно ты самая восприимчивая к красоте, а все остальные – эстетические болваны».
- Да, но если будет действительно красиво и неземно?
- «Не подбирать камни, а потом говорить: помогите понести мне мои камни, пожалуйста!»
- «Не говорить раньше времени о вершине, не мечтать о ней вслух».
- «Не говорить, высунувшись из спального мешка: ой, я сегодня не накрашенная!»
- «Не говорить на первой же стоянке: ой, мальчики, я хочу домой!»
- «Не звонить мне с вершины, а потом думать, что я специально не отвечаю».
- «Не говорить: а я не ем эти консервы!»
- «Не показывай проводникам, что у тебя есть доллары!»
«Не сиди без дела, вытянув ноги и направив лицо к солнцу; делай вид, что записываешь впечатления».
- «Помни обо мне».
- Видно, как Карл обеспокоен моей психикой.
- Килиманджаро за психическое спокоен, приглядывает больше за физикой.
- А я ему не сказала, что в детстве меня сбила пьяная машина, протащила 150 метров под кузовом, алкоголикам только удалось ее остановить (колесо уже все: замерло на животе). На мне лица не было, косточки все переломаны – год лежала, как замурованная, в гипсе – юная Венера в мраморе. Все школьные годы потом на физкультуру не ходила, сидела на скамейке, мерила по секундомеру скорость одноклассников.
- После школы пошла на танцы (тяжелый рэп) – порвала связки в коленке – еще на полгода гипс.
- Потом еще прыгала через шахту лифта, не допрыгнула, повисла над семиэтажной бездной на одной ноге.
- В общем, опыт у меня скорее антиспортивный.
- Но тем и интересней. В футбол же у меня хорошо получается играть: забиваю бескомпромиссные голы!
- Три последних сна.
- Как все в этом мире бывает в первый и последний раз.
- «Поэтому не надо противостоять искушению, оно может больше не придти. Уайльд».
- За чертой, где рождается
- Катаюсь я на лошади, а я в детстве хотела научиться кататься, а во сне я умею, и вдруг лошадь поворачивает гриву: а ну, слезай! Приехали! – говорит. –Что такое? В чем дело? – протягиваю ей руку, а она берет ее зубами и прокусывает: 4 дырки на руке, кровоточат…
- Карл дарит мяч, мячик – и узор на нем а ля Хофман, югенстиль – никогда не видела такого мячика…
- Вода, весь мир – вода, все залито на полметра водой, светит солнце, дно – паркет, паркетинки; на воде – лодки, в лодках мужчины, и все очень спокойно, гармонично… но я знаю – идет война, и каждую минуту умирает 1 мужчина. А тут блондинка ходит по воде – с золотыми волосами, с прутиком-железкой, на котором яд (она может ускорить смерть, проведя ядом по мужчине) – а мужчины очень гармонично лежат в лодках – разнежено. А девушка заигрывает с ними, улыбается – и делает надрез железкой, и мужчина умирает, а она ласково улыбается – и так происходит целый сон – и уже везде плавают гармоничные мертвецы. Я думаю: о, господи! мы же истребим всех мужчин! И я беру эту женщину за руку и смотрю на нее, и улыбаюсь, и провожу железкой по ее руке – и она умирает – эта богиня войны, Златовласка, а я Черновласка – спасительница и заступница мужчин.
|
а ты уже сидишь в Борее |
Это не алкоголик, его с |
|
Еще неизвестно, какой он |
По глазам и по рукам
|
|
А ты зачем даешь ему мой телефон? |
|
(Зинаида Гиппиус) |
|
|
Ты и спортсменов уважаешь. |
Да! |
|
Но они тоже люди! |
|
Когда мы с тобой встречаемся, ты глазеешь на витрины! |
Там меховые сумочки! |
|
У меня русский – не родной! |
|
Ты говоришь: «почапали»! |
Украшаю речь! |
|
Не все же такие как ты - в английской шинели Е.Онегина. |
|
Это шинель с пелериной! |
А я думала, что капот! |
|
Лана, за твою цыганщину мне иногда хочется тебя закопать!Если бы ты не была родной сволочью! |
Куда мы премся? |
|
Это ты куда прешься?! |
Все прутся и я прусь! |
|
Мы премся в «Римские руины». Только там мороженого нет. |
Я бы сегодня съела тройку сосисок! |
|
Тройку сосисок? |
|
«Читатель, безусловно, скажет, что во мне начисто отсутствовали и нравственная чистота, свойственная ранней юности, и то, что называется «духовностью». Можно было бы, конечно, объяснить этот дефект присущим мне от природы неистовым любопытством, плохим спутником нравственности, – если бы мое любопытство не было сродни отчаянной любви, которую испытывает к жизни тяжело больной человек, если бы в глубине души я был твердо уверен в безнадежности этой страсти…» – читала Ольге в «Римских руинах» своего литературного учителя Мисиму, недостижимую звезду.
- И на тренировках его читаю: бегу по бегущей дорожке, глаза бегут по строкам. И думается: зачем мне желать универсального человека – папу Карло. Чтобы в одном теле светился бы и ум, и понимание, и обаяние, и здоровье, и сексуальный огонь, и гений, и дом, и друг, и подруга, и собака. Не лучше ли все это разделить. Безобразия эроса – отдельно, безумие поэзии – отдельно, верность животного – отдельно, карьера – отдельно. Собственно, мне ведь нравятся сильные спортивные подтянутые люди, типа американских солдат, типа финских лесорубов, белокурые мальчики нордического типа. Сексуальные машины. А Мисиму я и так могу почитать, купить его в книжном магазине у Штефансдома – и эстетически наслаждаться, быть духовно независимым субъектом.
- И режиссер говорит: напиши про себя сценарий, будем делать фильм. Т.е. история моя уже объект исследований, а не слепое пятно в потоке дней, как это было еще недавно. Надо будет написать что-то вроде «Беги, Лола, беги!» Эротический триллер с разоблачениями. Карл пусть там сыграет мужскую роль, посмотрит на себя со стороны. Назовем фильм просто: «Лана, бежать!»
36
-
- Выпить стаканчик вина залпом и сочинить прощальные стихи:
- И негритенок ростом с баобаб
- На площади Звезды на Реденцплатц
- Что как звезда
- На дне
- И с буквой N вишневый бок трамвая
- Дунай Дунай веселое названье
- Твой цвет как пыль цветов тысячелетий
- И тополя…
- Все узнанное мною
- Как в зеркале мелькнуло в миг мгновенья
- Чтоб быть предвестником –
- Загадкой –
- Тополя – загадочны в тьме солнца
- И – вообще.
- Я вас любила,
- Может, не напрасно.
- В той Лете прошумите для меня:
- Шумим неслышно, но узнаю вас
- По трепету…
- И дрожь не унимать!
Плести эти веники поэзии можно бесконечно, если б было бесконечно само время присутствия. Но 2 февраля Вена встанет без меня.
- Восход солнца у нее намечен на 7,37.
- Покатят свои желтые сумки на тележках письмоносцы.
- Ольга Бригаднова умоется, начнет собираться на работу.
- Секретарь выйдет, покачиваясь, из шахматного заведения, ища на тротуаре окурки.
- Карл нашарит очки на тумбочке, подойдет к зеркалу, всплеснет руками: надо же – один!
- Херберт повяжет на шею цветастый платок, соберет бумаги, откроет дверь, скажет сам себе: «ну, до вечера, Херберт».
- Пусто и глухо кругом.
- И только я торжествую, как убежавший с урока школьник, ограбивший школьную кассу с учительницей пения.
- Теперь подумать об обложке. Фотография ноги, как я думаю, может выразить философию этой книги, ибо «расположение ног в пространстве говорит о бытийной настроенности субъекта, поставленного перед фактом существования, лучше, чем расположение его рук, глаз или головы». Инга Нагель.
- Нога моя, разумеется. Ноге всего 26 лет. Кг 16 мяса, стакан костного мозга. Опора жизни. Соблазн для мясоедов, маньяков и поэтов.
- Вспомним их поименно, кто вожделел мою розовую плоть:
- Фон Тауберг – капитан дальнего плавания, голландец, любивший, чтобы я спала в его фуражке, учивший меня плавать и фотографировать.
- Карлофен Юти – писатель-абсурдист.
- Карлбергер Петер – куратор.
- Карлович Виктор – русский художник.
- Карадагли Франц – писатель среднего поколения, пишущий о путешествиях на Луну.
- Каппеллер Марио – оперный певец: бас плюс тенор.
- Капун Анна-Мария – актер с характером примадонны.
- Капуски Андрей – фотограф, намертво влюбленный в мои ноги.
- Карахан Вальтер – детектив (огнестрельное ранение в шею).
- Каспар-Паулиссен Отто – пилот (суеверен, нет в живых).
- Кассер Франц – работник телевидения, режиссер (жив).
- Беговая Галина – спортсменка из Челябинска (домогалась как настоящий мужчина).
- Катт Григорий – официант.
- Куйукаклиогли Маугли – чернокожий литератор.
- Каниак Милан – архитектор, чертил только аэропорты.
- Казмир Антон – скульптор, познакомились на катке, любимые материалы: железо и снег.
- Кепплер Христиан – компьютерщик, застенчив.
- Принц Датский – мальчик 20 лет (без определенного будущего).
- Керн Курт – американский художник, богач, зовет в Америку.
- Карлингер Аугуст – профессор по американской литературе.
- Капуста Иван – чародей в цирке.
- Канцонетти Бьянино – итальянский писатель (суицидальная тематика, а сам обжора и сластолюб).
- Едвабный Валерий – поющий в хоре.
- Нади Емилия – художница по костюмам.
- Александр Ильич Золотар – врач с многолетним опытом в США, Германии, Австрии.
- Каролина – безработная девочка.
- Карлимакс Карл – актер, по неосторожности разбивший мне на репетиции губу (я так ему этого и не простила).
- Это те, кто испытывал глубокие чувства, делал предложение, хотел от меня детей и проч. Список просто влюбленных, если писать, будет весьма утомительным для тела.
- Вечное изменение. Я удивляюсь, как мне еще удается оставаться собой? Ведь от каждого субъекта я получаю его часть (поделиться же обычно норовят остатком, не обязательно негативным, а тем, чего не жалко, что для них избыточно).
- Капитан, например: подарил фуражку, катал меня на крейсере, показывал море. Думаете, это был дар! Ничуть. Фуражек у него – можно одними фуражками взять любую среднеукрепленную крепость. А море ему уже давно – неизбывная тоска: не выпить, не изблевать. Ну, меня тогда и помутило, покрутило в том круизе.
- С Килиманджаро – та же история. Ему пространство девать некуда. У него его на несколько поднебесных.
- Или Ольга мне поет. Это не голос – голосище. А попроси ее рассказать, как она в постели, – начнутся фигуры умолчания. Истинное золото, неподдельная платина – никогда вам не будут доступны.
- В воскресенье перетренировалась. У меня нога уже похожа на ногу штангиста. Хорошо, что Карл еще не видел, заперся в Цюрихе в поисках духовных совершенств. Килиманджаро доволен: теперь он может наложить мне в рюкзак побольше всяких альпинистских причиндалов. Как же! Живая сила идет!
- Плохо то, что, несмотря на сильный характер, я подвержена влияниям, как погода. Соблазнить меня нетрудно. Втянуть в любую авантюру. Помнится, как в юности меня соблазнил поэт Григорий Шевченко (вернее, его памятник на крутом берегу чудного Днепра при ясной погоде). Еле выбралась живой. Бежали три часа с подружкой через заборы, затоны, разливы. Страх и трепет до сих пор витают над Днепром в моей голове. «Хороший был человек философ Хома Брут, а сгорел, как бумажка!» – сказали бы обо мне. (Милиционеры решили нам помочь: вы девочки, видно, умные, так мы вас немножко изначальничаем). Профессиональные садисты в погонах. Любят тюрьму, но инфантильной любовью: по эту сторону решеток.
- Но ведь и я что-то даю.
- Может, это называется верой в настоящее.
- Стремлением к чуду. «Я был другом Ланы» – сколько раз, может быть, говорил капитан на корабле своим чайкам. Одной только животной похотью трудно объяснить, например, такой вот текст Карла:
«Любовь – это дромедар (разновидность одногорбого верблюда). Она существует без воды и может выдержать от оазиса до оазиса, поскольку считается самым странным существом пустыни. Ее можно сравнить с красной орхидеей, которая цветет один раз в 357 лет, как было обещано нимфам стариком, которому было позволено наблюдать за богами во время их ухода, и который поэтому мог себе позволить загадать 5 желаний. Четыре желания потерялись, исчезли в полумраке глубокой древности (доисторического времени), пятое желание, которое из-за скуки, потому что старику больше ничего не пришло в голову, ушло к нимфам ручья, которые дико плещутся в языке (речи), по сегодняшнее время предоставляется богами нимфам ручья (источника). Они на краю (границе) поэзии, которая бьет через их щели, согласились в минуты оргиастического слияния подарить этому дромедару – красной орхидее – странную жизнь.
- Любящие часто впадают в слезы от часового смеха в ненастоящем свету и в сильнейшую рассеянность, что их день разваливается (рушится). Их мысли часто направляются туда, где они были в детстве. Крича, когда оставлены одни, и счастливы, когда вместе, если они вместе вместе, как дом, в котором все комнаты светлые. Mmmhmmhmmmmm?»
- А ведь раньше, в 30 лет, он что писал? Представьте – 1000 страниц, где между героем и героиней происходят психоразборки с такими глубокими раскопками мотиваций, что душа оказывается за гранью разумного, погребенная во мраке этих проясняющих раскопок. А теперь вот – светлый миф об орхидее-дромедаре! Прогресс настроения, виток воображения! Мое ручейное эхо.
- Словесность. Игрушечный Домик Бытия. У нюф-Нюфа ледяной. У наф-Нафа лубяной. У ниф-Нифа – карточный.
- А вот текст напрямую обо мне, ради, во имя:
(kjfdu hfyn fhhhhgj kl dlssoasewl) – Карл помуслил карандаш, помыслил.
- Теперь я «натурфройнде» – друг природы: Килиманджаро вступил меня в общество, застраховал от этой самой природы. Даже не верится: теперь я застрахована со всех сторон, от всяческих несчастий. И секретарь вдруг блеснул остроумием: куда нам торопиться? жизнь и так коротка. Пьет, все, что булькает, до дна, как неудавшийся подонок. Может, флюс рассосется, говорит. На «Священные монстры» Лимонова облизывался, как на мед: а почему бы тебе, Лана, не писать, как Лимонов – широко и увесисто?
– Потому что я истину люблю, а она – тонка и, знаешь, подчас очень скучна.
- «К несчастью, не теперь – только в будущем, спустя, наверно, сто лет, горстка неизвестных писателей, которым удастся прожить в совершенном благополучии, воплотит нашу мечту о протяжной прозе, медленной и мутной, без хронологических примет, без имен, без авторских фобий и значащих сцен – о прозе, полной верных и вязких черт спокойного дня.
- Выпить стаканчик вина залпом и сочинить прощальные стихи:
Ш.А. Фергана, 96 г.»
37
-
- Бессонница.
- Перед кармическим стартом. Перед экзаменом смерти. В Вене выпал снег с небес как хохцайтовский (свадебный) саван. Торжественный холод небес.
- Куда меня несет как лодочку со света?
- На гору, на горе, на торжество, на провал, на муку, на самообман, на самоубийство?
- Уже мечтаю: лучше бы поехать с теплым неэкстремальным Карлом на берег моря под пальму с пищащей обезьянкой верхом на гроздьях кокоса, любоваться лотреамоновским океаном, что плещет кристалловые волны на понжовские умные гальки, задрав гладкие персиковые ноги выше головы, щурясь ресницами спрыснутыми сладким цветочным соком на созревший желток солнца, из которого вот-вот выйдет черный бархатный фазан послеоргазмного сна…
- На Килиманджаро ничего подобного не будет: там сны как голодные пугливые белые мерзлые издыхающие куропатки.
- Я не герой тоже. Если честно признаться, я – трус. Моя смелость – просто форма безрассудства; как только меня начнут бомбить ВВС, я буду убегать зигзагами в леса.
- Ну, и нежная конституция наслажденки.
- А туда идут семеро мужланов, все мастера спорта, закалка кентавров, дух калигул, безжалостность к соратникам, как просодия у Генри Миллера-Лимонова.
- Боюсь: оставят меня на первой же стоянке среди пауков-птицеедов и ушастых зубастых пупастых негритят-паукоедов.
- Ни кукареку.
- Страхи уже как у человекобезобразной обезьяны перед следом саблезубого тигра.
- Карл улетел легкой тенью в Цюрих, пожелав мне приятной прогулки, а Килиманджаро купил скалолазовские штаны на пуху гагары с мыса Доброй Надежды.
200$.
- Полный поворот кругом делать уже поздно.
- Колено болит, гордо, не гордо, а горло першит, пломба отлетела.
- Завоевательский апломб плюмпсен!
- Представляю, какая сейчас там грязь на Килиманджаро!
- Секретарь подарил книжку-дневник для записей:
- КИЛИМАНДЖАРО!
КИЛИМАНДЖАРО!
- 2-12 февраля
- дневник приключений в экстремальных
- условиях полуоткрытого космоса
- с описанием быта,
- нравов,
- непонятных явлений и
- душевных движений
- участников
- движения
- вверх и вниз
- по Алмазной Горе
- Килиманджаро
- 2004
С эпиграфом: Наша планета Земля – поистине чудо, редкостная прекрасная жемчужина в космическом пространстве. Астронавты сообщают, что голубое небо и белые облака Земли, если смотреть на них из космоса, «делают ее, безусловно, самым привлекательным объектом из всех, которые они видели!» -
- Из рекламной книжки Свидетелей Иеговы, с которыми у меня была кошмарная история.
- Это таким образом он надеется укрепить мой дух, когда меня накроет лавина. (Лавин там, по слухам, нет). Но дух уже пал. Секретарь советует сюрреалистические советы: бери прицел не на вершину, а чуть выше вершины, на звезду, тогда, может быть, и дойдешь до третьей стоянки с температурой тела между Сочи и Мары. Потом бери прицел выше и попытайся увидеть ангелов, которые, если они в тот момент не будут голодные, за несколько поклонов в ноги тебя доведут до четвертой. Но дальше проси помощи только у смерти, лишь у смерти: только она обладает сверхъизбыточной мощью покорения вершин.
- К ней нужно взывать, призывать:
- Ну, где же ты, приходи, бери меня, я – твоя!
- Если она услышит твой призыв влюбленности, если твоя влюбленность в нее покажется ей по чистоте такой же, какая когда-то к жизни, она откликнется и поможет переступить через черту, отделяющую обыкновенные человеческие возможности от необычных, нечеловеческих. Она поделится с тобой своей силой, которой она отнимает жизни у тех, кто ненавидит ее, клянет и лжет ей в лицо!
- Это он решился поделиться своим мистическим опытом.
- Но мистический опыт, красивый в своих темных высказываниях – принципиально непередаваем.
- Бессонница.
38
-
- И все попрощались со мной словно с телом у гроба. Ольга даже подарила в бутылке святой воды (попросила у настоятеля): выпей в Африке, там же сейчас июль. Связала флаг, сине-желтый, украинский: злые небеса, пшеничное поле, чтобы воткнуть его в снег. Благословила. Секретарь подарил душеспасительные сказки на тему вечности. На куртке у меня компас и градусник для ориентации в реалиях. Туалетная бумага ароматическая (чтобы все-таки не превращаться там в животное без гигиены). Последние известия из книги:
- «Группа американцев в составе 50-ти человек решила встретить миллениум на вершине Килиманджаро. Итоги: один американец умер от разрыва сердечной аорты, одна американка от переутомления, остальных 48 носильщики снесли вниз с острейшим алкогольным отравлением!»
– Мы на смерть идем! – сказал Килиманджаро на посошок. Он берет с собой литр московской водки.
- И все попрощались со мной словно с телом у гроба. Ольга даже подарила в бутылке святой воды (попросила у настоятеля): выпей в Африке, там же сейчас июль. Связала флаг, сине-желтый, украинский: злые небеса, пшеничное поле, чтобы воткнуть его в снег. Благословила. Секретарь подарил душеспасительные сказки на тему вечности. На куртке у меня компас и градусник для ориентации в реалиях. Туалетная бумага ароматическая (чтобы все-таки не превращаться там в животное без гигиены). Последние известия из книги:
39
-
На всякий случай я прощаюсь с русско-немецкими читателями (конечно, хочется длить свое присутствие на странице, медлить с завершением письма, возвращаться, махать рукой, посылать воздушные поцелуи, опять выглядывать из-за угла, что-то кричать, открывая впустую губы , показывать глухонемыми знаками: мол, все о кей, мол, будем молодцами, мол, свидимся, мол, пусть у нас у всех стоит как никогда!)
- 40
- Если наш самолет совершит вынужденную посадку на пески Сахары, там… (но это уже из другого кино, с другими звездами).
- Да, совпадения имен с реальными – досадная случайность.
- Нижеследующие записки были найдены у Роксоланы Микиты в рюкзаке. В самый последний день путешествия ее укусила за палец змея: писательница не дошла до лагеря всего несколько сот метров. Ее последние слова были совсем как у Сократа: «колено не болит, в глазах темно, настроение фантастическое …найдите эту змею, подарите ее косы Мисиме…»
- Надо полагать, что несчастная имела ввиду Карла, которому завещала прядь своих волос.
- Похороны были пышными, в гробу, усыпанном белыми гвоздиками, Роксолана была неестественной, бледной, неподвижной, как труба; никто не плакал, не причитал, как это принято у славян; Карл не присутствовал, так как никто не знал ни его настоящего имени, ни телефона.
- На плите инкубария написано:
- «Она испытала все наслаждения,
- уготованные смертным,
- и почила в мудрости.
- Ей было не больше 28 лет.
- Такие люди являются украшением любой эпохи».
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- (дневник достопамятного путешествия, написанного трясущимся карандашом)
- Как мы отметили, размеры вселенной поистине внушают благоговейный страх.
Жарко. +33 в тени. Удивительная ясность, прозрачность, пряность воздуха. Настоянный на травах запах. Атмосфера безмерной широты и свободы. От аэропорта ехали на автобусе. Автобус кенийский, у них тут есть автобусный завод. Асфальт. Город похож на средний американский городок, как бы провинциальный, запыленный. – Есть ли в городе тигры? – Ни тигры, ни жирафы в город не заходят. Когда ехали по дороге, видели семью зебр: четыре толстые зебры в волнообразных полосках, как и показывают в документальных фильмах о природе. Мне показалось, что на фоне желто-зеленой саванны они вырезаны из бумаги. Много птиц с красным и пронзительно голубым оперением, небольшие. Стремительно порхают. С нежным и веселым посвистом. Зонтиковые акации по всему пути-дороге, уже как будто обуглившиеся на солнце. Ощущение, что я попала на другую планету. В мир снов. Кружится голова, оглушение, вижу свою сетчатку глаз, как по ним расходятся оранжевые круги, словно в оранжевое озеро Чад только что нырнул изумрудный крокодил. Чудно. У меня легкое опьянение и восторг. Хочется закружится. Не удержалась, поцеловала Килю: ах, как здесь чудесно! Африка!
- Доехали за три часа до отправного пункта восхождения. Вроде туристической базы. Оформили заявку, заказали носильщиков, с нами идут два проводника: два высоких сильных африканца, с чувством собственного превосходства, как у кондотьеров. Одного зовут Буви, другого Тубуро. Это их клички. Тубуро посмотрел на меня и улыбнулся. Но мне показалось, как-то несколько нагловато, или просто это они так открыто улыбаются, обнажая все свои сахарные зубы и смотря прямо в глаза. Зрачков у них не видно и смысл их взгляда непостижим.
- Ах, какие дети! Как они двигаются! Девочка в белом платье с огромным букетом цветов – маленький эльф. Ребятишки, почти голые, с тонкой нитью бус, словно завороженные своим детством, улыбаются и тебе, и вселенной, помавая ручкой, как бы умные рыбы с той стороны волшебного стекла.
После переговоров мы пошли на рынок, чтобы купить еды и амулетов. Меня, правда, хотели оставить сторожить наше снаряжение, но Буви это взял на себя: здесь никто ничего не тронет, сказал он по-английски. Рыночная площадь мне показалась несколько бедной, но очень экзотичной. Много мишуры, деревянных зверей, ожерелий из зубов мартышек, поделок из кокоса, масок духов, священных палочек. Продавали даже засушенную лапу крокодила. Но кроме кукурузных лепешек, каких-то корешков и ананасов (это оказался особый вид каменной капусты) ничего не было. Еще лежала на пне, по-видимому, баобаба, огромная пятнистая мурена, над которой витал рой неприятных красных мух. Не исключено, что это были те самые це-це. Подумав, я купила маленький барабан, деревянное ожерелье с изображением местных животных и большую связку бананов, чтобы угощать всю нашу компанию.
- Настроение у всех приподнятое. Темнеет здесь быстро, вечером пошли в ресторан, но оказалось слишком дорого. Килиманджаро заказал банановое пиво с салатом из алое и жареных угрей, которые здесь выступают вместо сосисок. Завтра утром – в путь.
- То, что галактики развешаны по небу, как гроздья винограда, в этом некоторые люди видят божественный порядок.
- Вышли в пять, чтобы не идти по жаре. Шли по болоту. Думаю, что происходит? Куда мы вертимся? А это солнце здесь идет не по-человечески, против часовой стрелки: мы же в южном полушарии! Комаров – не видно неба. Перед выходом наелись таблеток от малярии. Дурманящий побочный эффект, сонливость. И болото транслирует какие-то снотворные миазмы, галлюциногенные фитоциды. Мешок тяжелый. Снились огромные кожаные животные, которые все мелькали за спиной, но я не могла их отчетливо увидеть, чтобы их не пугаться. Это наши носильщики. Они идут уверенно, балагурят между собой. Увидят в небе журавля и нам показывают, называют по имени: марону! – и улыбаются, очень довольные, что сообщили какую-то очень важную тайну, от которой, возможно, зависит все наше дальнейшее будущее.
- От безмерно большого до безмерно малого, от скоплений галактик до атомов – повсюду для вселенной характерна великолепная организация.
- Идти надо было 17 км. Я сломалась на втором. Колено подвело. Пришлось остановиться, перевязать его эластичным бинтом. Когда перевязывала, все носильщики не отказали себе в удовольствии посмотреть на перевязку. Но мой мешок у меня никто не взял. Не помню, как я прошла остальные 15 км. Как в тумане. Когда шли, я смотрела все на вершину Килиманджаро. Но как-то мне было непонятно: мы все идем и идем, четвертый, шестой час, восьмой, а Килиманджаро не приблизилась в глазах ни на сантиметр. Просто под ботинками уже не болото, а твердая саванна, и кое-где вдруг покажется среди кустарников огромный валун, покрытый сухим желтым лишаем.
- Поистине, вселенная организована настолько точно, что человек может использовать небесные тела как основу для измерения времени.
- На одиннадцатом километре мы с моим носильщиком Мбу здорово отстали. Но наши были еще в пределах видимости. И тут мы увидели партию слонов.
- Очень обходительные животные, вовсе не звери. Целыми днями купаются в грязях, делают себе душ из пыли, плавают по озерам. Иногда главные слоны бьются, как кочубеи, род, как войско, следит на пригорке за битвой, слонята жмутся под брюхо теток, прабабок, матерей. Насмотревшись, они и сами бодаются с братьями за титьку молока, которого выпивают 12 литров в день. У слоних две титьки на груди, как у человека. Слоненок рождается уже готовым для похода: прямосмотрящим, с четырьмя столбиками ног. Ноги настолько выносливые, что слоны за сто лет жизни никогда не ложатся, спят стоя, прикрыв мудрые ленинские глазки длинными белыми русалочьими ресницами. Снятся им закаты и восходы, просторы, мягкие илистые грязи, соляные горы, птицы-секретари, сопровождающие их в пути. Открыв глаза, они обнаруживают себя в своем собственном сне и начинают путь. Оттого походка у них сновиденческая, лунатическая. Они не ведают ужаса, которым объяты мелкие животные, вынужденные практиковать суетливый образ жизни, чтобы не думать о приближающейся к ним беде. Это поразительно: слоны настолько смышленые, что выработали себе научно-фантастическую руку в виде хобота, словно они знакомы с литературой фэнтези. Возможно, они сочиняют и стихи, рифмуя даль и удаль, им, безусловно, ведом счет, но они консервативны: когда прибавляется новая единица в виде новорожденного слоненка, отец-самец воспринимает это как подрыв основы мироздания. Круглое число 12 отличается он некруглого 13! Но он смиряется, потому что глубины самосознания уже охвачены смутной радостью: теперь слон знает новую единицу исчисления мира – «больше на 1 хобот, чем было» – он стал мудрее! Т.к. слоны неженки, они могут придти в ярость, если муравьи подточат дерево и повалят его поперек тропы, ведущей к водопою. Тогда они набрасываются на муравьиные города и вытаптывают их до основания, оглашая разрушения воплями военных труб. Они похожи на странствующих монахов, на дервишей, на военный отряд, обходящий границы государства, во имя спокойствия неведомого им короля. Иногда они попадают в зону его видимости: это Килиманджаро в алмазной короне стоит над горизонтом. Они поднимают хоботы, приветствуя смутного суверена . Им, должно быть, известно, что земля держится на трех слонах, но они относятся к этому равнодушно: отрицать это неумно, но и настаивать на этом глупо. О существовании китов они ничего не знают.
- Возможно, что это сделал все-таки Бог, - заметил астрофизик в раздумьях.
- Львы. Я видела, как обезьяна, вскарабкавшись на дерево, расположилась в развилке и бросает во львов корой. Обезьяна недоступна и кичится этим. Молодой лев пытается залезть за обезьяной, но он намного тяжелее кошки, и на дереве совершенно беспомощен. Несколько львят вышло навстречу слонам. А слоны на них топают, эти придурки еще маленькие, они вынуждены, пятясь, отступать, с плаксивыми воплями. С маленьким кабанчиком они играют, подготавливая себя к будущей взрослой охоте. Опасна встреча со змеей, плюющейся ядом. Попадет – львица ослепнет. Но змея убегает. Антилопу гну таки заломали четверо львиц. Буйволы львов не боятся. А вот за старым кабаном ползет львица. Стелется, подворачивает лапы, чтобы не шуршать, вкрадчиво, хвост за ней тащится по земле, как веревка, и неожиданно, как призрак ада, выскакивает из желтой травы, сама песочного отлива, тело, как распрямляющаяся тугая пружина, с хладнокровным лицом безжалостного убийцы, мстителя за детей, с сомкнутой пока что пастью – старый кабан только успевает хрюкнуть с уханьем ужаса – а дух уж из него вон! С падальщиками особые отношения у львиц: терзать погаными клювами чужой пир! Две сотни грифонов. Плебеи, ворье, выжили лишь благодаря естественному отбору, а не решая творческие (замешанные на искусстве) задачи выживания. Санитары-прихлебатели. С дикобразом большие коммуникативные трудности: если пустит иглой в лапу, в нос, это грозит выходом из строя, голодной смертью. Львицы друг другу милостыни не подают.
- Интересен также и следующий факт: из всех планет нашей солнечной системы Земля – единственная, на которой ученые находят жизнь.
- Неожиданно мы оказываемся в полосе зарослей. Уже начался подъем. Тропу, пробитую в черно-бурой земле, перерезывают корни зонтиковых акаций. Идти становится труднее, но эта трудность рождает в тебе спортивный интерес. Тропа петляет, выбирая наиболее беззатратный путь. Я уже нашла свой ритм, как начался дождь. Мбу сказал, что осталось всего 5 километров.
- Энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света!
- Е=mc2!
- Подумав, я оставила у камня все те книги, которые я брала читать в самолет. Начала кружиться голова. Но дорога пошла еще круче и извилистей. Все, Мбу, перекур. Сейчас нельзя, сказал Мбу, за нами идут львы, которых мы видели на равнине: ваши ребята забыли помыть руки после рыбы, а кошачьи чуют этот запах за 40 миль. В деревне отдохнем. Это известие меня сильно ободрило.
- Наша планета Земля – поистине чудо, редкостная, прекрасная жемчужина в космическом пространстве. Астронавты сообщают, что голубое небо и белые облака Земли, если смотреть на них из космоса, «делают ее, безусловно, самым привлекательным объектом из всех, которые они видели!»
- Маленькие шустрые крокодильчики охотятся на стрекоз. Их необузданная хищность и подлость шпионов проявляется, лишь они выкарабкаются из сдерживающего их ненасытную ярость материнского яйца. Пол крокодильчиков пока неизвестен, он проявляется лишь на втором году жизни, когда они сами решат, кем им нравится больше быть – девочкой или мальчиком. У девочек есть преимущество: в будущем их должна охватить нежность к маленьким зеленым протекторам, которых они будут катать по глади родного озера между зубов. У мальчиков такой перспективы нет, и они вырастают мельче, чем их подруги. Поэтому они часто выходят без одной лапы в междоусобных схватках. Притаившись колодой в зарослях лотосов, они, постоянно голодные, неудовлетворенные, стерегут малейшее движение на сухопутном берегу. Подплыв совершенно бесшумно, они могут преподнести умирающему от жажды неожиданный сюрприз в виде взметнувшихся брызг шампанского фонтана, полного бесстыдно-алого и зубов. Большие крокодилы способны провертываться в воде с такой могучей силой, что сворачивают шеи толстым зебрам, словно это пучки сахарного тростника. Но даже нежный укус крокодильих зубов смертелен, ибо слюна полна смертоносных бактерий: поэтому раненые зебры иногда сами возвращаются на крокодильи лежки, чтобы их добили. Умертвив добычу, крокодилы прячут ее в пещерки под берегами, чтобы она основательно подтухла. Был случай, когда человек таким образом заново родился, когда обнаружил себя в крокодильей кладовой. После чего он навсегда уехал из Африки, остаток жизни проработал в Диснейленде, показывая детям свои допотопные шрамы. Несмотря на внушающий ужас внешний вид, само мясо крокодила напоминает по нежности и вкусу рождественскую индюшатину.
- Интересен также следующий факт: из всех планет нашей солнечной системы Земля – единственная, на которой ученые находят жысть.
- По моментально раскисшей тропинке через 2 часа мы кое-как добрались до перевалочного пункта – деревни на сваях. Там кишмя кишело людьми со всего мира – любителями экстремальных путешествий. Были и калеки – русский отряд на колясках, который гадал, как им быть: по пересеченной местности предгорья коляски запутывались в растительности, лес буквально вставлял палки в колеса. Им бы только выйти на чистое место, а уж там-то они себя покажут – ведь тренировались два года, а выдержки и терпения им не занимать. Тут же ошивалась и шайка японских даунов, с которыми русские хотели скооперироваться: вы нам поможете на первом этапе, мы вам отплатим на последнем: поедем все вместе вниз на колясках. Но японцы явно были себе на уме, они хотели реабилитироваться самостоятельно, суверенно. Были французы, группа норвежцев, которая только что спустились с самой вершины, потеряв лишь одного человека (на высоте 4 600 он вдруг страшно запоносил), теперь он стоял в окружении своих с непочатым рулоном туалетной бумаги в руках и с восхищением слушал россказни товарищей, обветренных, веселых, пьющих из маленьких чистых бутылочек норвежское пиво. Вокруг них реял ореол избранничества, исходил холодок небожителей. На нас они просто не смотрели, не замечали, казалось, попадись мы им на пути, они прошли бы сквозь нас, как сквозь воду. Повсюду дымили костры, аборигены готовили шашлыки, в двух котлах кипел жирный суп, распространяя соблазнительный дух из смеси жажды, жизни и отдохновения от обоих.
- Люди произошли от «крысоподобных приматов».
- Я обнаружила, что карманные деньги я оставила в одной из книжек, которые оставила под камнем. Сказала об этом Мбу. – Сколько там было? – поинтересовался он. – Почти сто. Он вызвался сходить за книгами.
- «Рыбы появились внезапно!»
- Килиманджаро меня накормил. Я обнаружила, что колено мое совсем распухло, но боли не было (наверное, от усталости, от полного бесчувствия). Я привалилась на рюкзаки, закрыла глаза, слушая гомон и лопот, словно я очутилась в аэропорту, склонила голову на тамтам и мгновенно заснула.
- Первые шаги неизвестны… от них… не осталось и следа!
- На закате пришел Мбу и объявил, что книги уже кто-то унес, наверное, кто-нибудь из норвежцев. –Так жалько! – развел он длинными руками.
- Современные обезьяны, например, возникли, видимо, ниоткуда…
- После дождя возникли полчища москитов. По-видимому, миллионы лет они поют одну и ту же песню: зу-зу-зу. И не надоедает. Когда спала, приснилось, что я собираю в Вене для Карла ландыши, а они звенят, звенят, звенят, как серебряные кандалы. И рассыпались. Звезды здесь близко. И они то расширяются, то сужаются, как кошачьи зрачки. Это у меня температура. Килиманджаро потрогал лоб: 38,5! Ну, сказал он, приехали! Дал мне выпить водки и аспирина с витамином С. Положил меня в мешке в хижине проводников на пальмовые листья (четырнадцать отелей все битком были забиты невосхожденцами, поджидающими свои группы; один домик исполняет функцию лазарета, а около него сарай, который служит временным моргом, пока не прилетит вертолет). Вечером из хижины, сквозь бред, я могла видеть, как танцуют вокруг костра негры свои показательные танцы... А, сказала я себе, чего уж там, один раз в Африке! – и тоже пошла танцевать, тарабаня по тамтаму.
- Для того, чтобы выбраться из скорлупы, зародыш снабжен характерным яйцевым зубом, при помощи которого он прорывается из заключения.
- И странное чувство, словно я всегда была отпрыском чернокожих племен. Негры, ударяя в капустные ладоши и мутузя ногами гулкую пористую землю, затянули протяжную древнюю песню, до того нескладную, что казалось, что над пляшущим племенем развесили в ночи кучу металлолома. Войдя в священный раж, я только выкрикивала в припеве: «О-о!о-о-о! Бум-ба-мумба – ки-ко!» Мбу сказал: зачем тебе на вершину, останемся здесь, будем каждый вечер танцевать, пока ваши не вернутся. Он хитрый: носильщикам сполна платят за два конца, если даже их подопечный сломался на первой же стоянке. – Нет, - сказала я. – Поползем, Мбу, дальше!
- То ли танцы, то ли водка, то ли аспирин, но утром я встала, воинственная и полная завода, как маленький трактор.
- Снилось, что я сплю в гамаке над вершиной, гамак подвешен к высоковольтным проводам, вокруг зима, метель, какой-то маленький дух в черном пальто ищет близости. «Не балуй!» – погрозила я ему.
- И все-таки о клюве птиц говорится, что он образовался случайно из носа пресмыкающегося! Правдоподобно ли, по-твоему, такое объяснение.
- Теперь идти надо медленно, рассчитывая силы, уповая на свою природную выносливость. Вся наша партия состоит из сплошных сухих мускулов, да и внутри у них, кажется, нет внутренностей, облепленных жиром, а лишь механические меха, вдувающие воздух и компактные динамомашины для выработки тока. Такое впечатление, что мой сорт мяса радикально отличается от их волчих сортов. Надо сегодня пройти 16 км. Подъем – 26 градусов. Пустяк для голубых беретов. Давление резко падает начиная с высоты 2000. Нужно пить много воды. Вода в животе тянет вниз, разумеется. Вчера здесь был настоящий ливень, и дорога раскисла, совсем как на Украине. Нет, на колясках здесь не пробраться. У даунов-японцев тоже будут проблемы: они же, как дети, не выносят несвободы, начнут жаловаться, нервничать, орать, что мир цепляется, склеивает их свободный полет стрекоз. Профессор американской литературы, за которым я увязалась, уже начал потихоньку культурно материться. Ему ли это пристало. Вспомните, говорю, Джека Лондона, профессор: «Нет, не возьмешь!» – говорил герой 60-градусному морозу после того, как провалился по своей глупой самонадеянности в ручей. Профессор ответил, дыша, как кит, что он прозой не занимается. Он профессор по поэзии. Тем более, сказала я, у нас же метафизическое восхождение человеческого духа, а вы взяли с собой свое бренное тело. И я решила взять его на обгон.
- Казалось, что труднее всех будет фотографу, он постоянно отставал, выбирая выигрышные точки для фотографирования, застревая на деталях, ожидая эффектного освещения – но вдруг оказывался далеко выше всех, чтобы запечатлеть оттуда нашу веселую цепочку.
- Как только мы поднялись выше 2000 метров, перед нами действительно открылась впечатляющая панорама. Джунгли остались внизу, а вместе с ними и вся Африка, которая не умещалась в горизонт и, как бы завертываясь на края неба, поднималась по пепельно-сиреневым ступеням далеких слоистых облаков в пространство идеального вымысла. От этого завораживающего зрелища все вдруг заразились волшебной легкостью, невесомостью: восхищение было настолько сильным, что хотелось хохотать («Нельзя!» – сказал Килиманджаро. – «Хорошо хохочет тот, кто хохочет последним»).
- Информация, хранящаяся в 100 миллиардах нейронов человеческого мозга, может заполнить около 20 миллионов томов!
Мы посидели на камнях, жмурясь вдаль, как аллигаторы. Волшебное чувство могущества, божественного всевластия: вся земная вселенная лежит у ног в очаровательном прахе, безмолвная, спокойная, вечная, как то, что никогда не рождается и поэтому никогда не способно умереть. Неужели я всего два дня назад была там? Там – как будто совсем в другой жизни, случившейся с кем-то, о ком я знаю лишь понаслышке. Города, люди, их биографии – ничто не может проникнуть сюда, в эти высшие сферы мироздания. Боги? Но только не те, которые приколочены к картонным воротам церквей. Бедные, нищие духом сволочужки! Бедный, затюканный, близорукий, изведшийся в поисках самодельного театрика Карл! Как он стар, как старый кукольный черт, затесавшийся среди простонародья, тогда как мир вечно свеж и нов!
- – А, ну, казаки, по коням! – скомандовал Килиманджаро. – Размечтались, едрена корень! – и сам проулыбнулся, что у него так складно получилось (поэзию-то он бросил не без влияния, оказанного на него в наивысшие минуты природой).
- Да, пропасть между человеком и животным – величайшая из всех бездн.
- Сегодня мы видим шимпанзе, горилл и орангутангов, но не видим никаких «обезьянолюдей»!
- Не надо расслабляться, ведь настоящее озарение еще впереди. Это, правда, не чувствуется по нашим носильщикам. Мбу, кажется, только тем бы и занимался, что сидел у огня. Любитель сладкой жизни – только знай, что выпрашивает у меня конфеты – кислые леденцы фирмы дюшес, а когда надо отлить, так он не больно-то и отворачивается. Может, озарения приедаются, или просто никак не мешают жить дальше. Такие обмирщившиеся сталкеры. Спрашиваю у него ради издевки на интеллектуальность: Мбу, ты «Сталкера» видел? –Да, говорит, видел, у нас вашего «Сталкера» часто в клубе крутят: особенно ребятам нравится, как эта троица ехает на дрезине за мечтами: вот бы, говорят, и нам проложить на одном из участков узкоколейку, а лучше бы – вокруг всего бугра – катали бы жуков на экскурсию, ходили бы в форме машинистов, кондукторов и контролеров: все было бы разнообразие. Мечты! Но у наших сталкеров книжек на-мно-ого больше, чем у вашего, не-со-из-ме-ри-мо, на каких хочешь языках: так что им, между нами, на интеллект лучше не давить.
- Наш Млечный Путь состоит из более 100 миллиардов звезд.
- – Ты знаешь, какой здесь конкурс на место носильщика? – сказал Мбу, вежливо помолчав десять минут. - Да… На три порядка выше, чем в МГИМО: 100 000 человек на место. Нам бы только в космос летать без скафандров, но – мафия и дискриминация не позволяют ступить даже на начальную ступеньку этих перспектив. Говорят: вот уродились в солнечной Африке – и плетите из лиан корзины для бананов, а в космонавтов можете играть и на Килиманджаро. Кстати сказать, там ведь действительно воздуха нет.
- – Как нет?
- – Ни капли.
- – А как же народ дышит?
- – Через не могу. Там невозможно дышать. Дело в том, что вот уже лет как двадцать вершина Бугра превратилось в бес-пре-цен-дент-ное WC. В могильник экскрементов. Ведь там нет ни зверей, ни дождей – и все отходы прекрасно сохраняются в полуокаменевшем, полузамороженном состоянии. Собственно, народ там ходит уже по десятому слою, воображая, что это и есть вулканические камни.
- – Мбу, зачем ты мне это рассказал? Ты хочешь мне сбить дыхание, чтобы я выдохлась, чтобы мы поскорее повернули в деревню?
- – Да нет, это к слову. Там все равно все заметено снегом. Это я философствую в том смысле, что Килиманджаро обречено через какую-нибудь тысячу лет врезаться в Космос, поэтому, если ты дойдешь, это событие наступит даже чуточку скорее.
- Я не знала, как адекватно относиться к научно-фантастическому бреду Мбу: или это своеобразный витальный юмор, или своего рода фирменные подначки над белыми европейцами, или …
- Рассмотрим, например, галактику под названием Млечный Путь, в котором мы живем.
- Диаметр нашей Галактики до того велик, что тебе, даже если бы ты мог перемещаться со скоростью света (299 793 километра в секунду), понадобилось бы 100 000 лет для того, чтобы пересечь ее! Подумай об этом на досуге.
- Их доколонизаторская сказочная космогония знавала и не такое.
- Наша солнечная система, очерченная на этом рисунке квадратиком, кажется совсем крошечной по сравнению с Млечным Путем.
- Это их современная мифология, начало новой мифологии! – поняла я. (И это подтвердилось, т.к. наши тоже рассказали, что их носильщики проповедовали в том же духе и отговаривали их ходить по большому: т а м сходите, это такой здесь ритуал, убеждали они. Свою вавилонскую библиотеку они тоже не просто так собирают, а с той целью, чтобы завладеть знаниями после того, как белые одним прекрасным днем превратятся в круглых идиотов.
- Я сказала, что у нас там, в Европе, солнце ходит задом наперед.
- – Разумеется, - широко улыбнулся Мбу. У него даже проскочили в глазах какие-то шелудивые искорки, и он еще долго шел, наслаждаясь своей саблезубой улыбкой, доставлявшей ему – уже безотносительно к теме, просто своей данностью, словно это была непознаваемая, неубывающая и неуничтожимая вещь-в-себе, несравненное удовольствие.
- Диаметр нашего Млечного Пути составляет приблизительно один квинтиллион (1 000 000 000 000 000 000) километров!
- Какой величины диаметр нашей Галактики?
- – Мбу, -сказала я через минут десять. –О чем ты думаешь?
- – О себе.
- – Обо мне?
- – Нет, о себе. О тебе я не могу думать.
- – Почему? Религия не позволяет?
- – Нет, просто это бесполезно, это все равно, что думать за тебя.
- – То есть?
- – Это совершенно немыслимо.
- – Почему?
- – Это все равно что испытывать или не испытывать за тебя оргазм.
- – Понятно.
- – Поэтому я думаю о себе.
- Да. Чистая логика. Правда, с некоторым не обнаруживаемым дефектом. Обо мне ведь можно все-таки думать. Представлять меня.
- – Это совсем другое, – сказал Мбу. – Но мне и представлять тебя нет необходимости: ты и так вся налицо.
- В составе этой местной группы имеется одна «соседняя» к нам галактика, которую можно увидеть в ясную ночь без телескопа. Речь идет о галактике Андромеды, которая, как и наша галактика, имеет спиральную структуру.
- Вот паразит. Это у него такие космические комплименты.
- – Ну, как о духовной субстанции, что ты обо мне скажешь?
- – Души у тебя нет.
- – Отчего ты так решил?
- – А ты считаешь, что есть?
- – Конечно!
- Мбу стал необычайно серьезен, даже воинственен, он долго смотрел на меня будто из какой-то далекой засады, сжимая-разжимая лямки рюкзака так, что костяшки на его могучих черных кулаках даже побелели.
- – Тогда и неси свой рюкзак, – сказал он и поставил рюкзак с водой, провизией и всякими другими подсобными материалами у моих опешивших ног. В нем этих материалов было на килограммов двадцать. Я села на рюкзак передохнуть. Мбу молчал, справедливо полагая, что ход теперь за мной.
- Душа, дух, демон, – соображала я, пия не спеша начиненную магнезием воду. – Человек не демон, это железно. Просто у них такие вещи идут под одним означающим. Он не врубается в контекст, вот и все. Я не врубаюсь. Возможно, это даже что-то вроде Бога. Т.е. я заявила, что во мне уже ночевало нечто божественное. Вот он и обиделся на меня. Возможно, чтобы стать демонами, духами им приходится преодолеть черт те что, если, вообще, для этого, как минимум, не нужно сгинуть в пасти тигра, который сгинул в пасти каракурта, который сгинул в пасти цветка каменной капусты, которая сгинула в пасти всепожирающего вечернего солнца сезона осенних дождей… Однако за рюкзак ему заплачено, если еще не считать те премиальные 100 долларов, которые он спрятал в десяти шагах от того самого камня. Если отсчитать их. Стоя в полдень спиной к солнцу. Да, эта Африка меня уже тоже потихоньку начинает доставать, причем, смотри-ка ты, с какой неожиданной стороны. Что ж, не побоялась москитов, не побоюсь и насквозь прогнившего ума (ума! надо же!) Мбу.
- Я взвалила на плечи его рюкзачище, придавив им свой легкий рюкзачок.
- – Конечно, есть, – сказала я. –А ты как думал!
- Галактика Андромеды, похожая на наш Млечный Путь, является всего лишь небольшой частью внушающей благоговение вселенной, которая, по мнению некоторых, состоит примерно из 100 миллиардов галактик.
- Казалось, Мбу был немного поражен, т.к. глаза его подвыкатились из орбит.
- – А почему у тебя тогда нет бороды? – спросил он через десять минут с благоговейным ужасом. – Не растет?
- – У меня борода растет на другом месте, друг Мбу, как-нибудь покажу, – ответила я со злостью.
- Такие размеры и расстояния почти невозможно охватить человеческим разумом.
- Все выяснилось лишь на следующей передышке, где наши нас ждали уже битых полчаса. Все дело в дискриминации, стал смеяться Килиманджаро, оказывается женщины у этого паршивого народа по определению не могут иметь души, ибо она постоянно улетучивается у них через одно место. Банально, до отупения.
- – Да, но рюкзак! Зачем он отдал рюкзак?
- – Они и нас считают за баб, – сказал Килиманджаро тихонько, чтобы никто не слышал. – Мужчина, по их психологии, все свое должен носить с собой, по типу мошны. Ты наблюдай, наблюдай, тебе еще отчет писать о двух типах цивилизаций.
- Рюкзак мы вернули обратно на попечение Мбу. Он долго смеялся, что мог заподозрить меня в оборотничестве: конечно, никогда не было, не будет, и не нужно, чтобы была какая-то треклятая душа: потому что тут лотерея: а вдруг она будет тупая, хилая, хлипкая, пугливая или что похуже. Африка полна всяческими голодными монстрами. На сталкеров, например, громадный отсев по состоянию именно этой нематериальной части: лживые и жадные, например, – это калеки первой группы, их даже не берут в зачуханные таксисты.
- И все-таки наша Галактика – это только начало того, что находится в космическом пространстве!
- Вот, что значит – не знать культурного контекста, всего контура мифологем. И мы опять нашли с Мбу взаимопонимание, еще больше подружились.
- Когда мы под вечер добрались до промежуточного лагеря, оказалось, что вот уже как 18 часов между Кенией и Танзанией на подступах к Килиманджаро идет кровопролитная война!
- Это старая рана, которая тем не менее постоянно кровоточит: пересмотр границ, борьба за контроль туристического бизнеса.
- Дело в том, что граница Кении заканчивает как раз там, где начинается Бугор, и кенийские фирмы возят своих туристов лишь к его подошве, где, собственно, и заканчиваются, не успев еще толком начаться, экскурсии. Зверей в Кении тоже почти что не осталось, так как они потихоньку перебрались все в Танзанию, где кормежка сытнее опять-таки из-за туристического перевеса. Границы же когда-то были проведены совершено условно, взятые с потолка (на самом деле вождь кенийцев прошляпил Килиманджаро, поверив лазутчику, что гора вот-вот проснется и затопит все огнем). Теперь за первобытную глупость приходится расплачиваться первобытной бедностью. Чтобы хоть как-то поддерживать бюджет страны, кенийские сталкеры водят группы, пересекая границу нелегально. Но каждая вылазка сопровождается человеческими жертвами: иногда вся партия под отравленными жалами стрел пограничников.
- Мбу, узнав о случившемся, сделался очень взволнован: если война не закончится к утру, его могут призвать в эту мясорубку как резервиста. Обычно такие передряги заканчивались тем, что мы сдаем в аренду кенийским турфирмам три-четыре тропки на три-четыре месяца. Война нам не выгодна. Кенийцам же терять нечего: еще по весне перешел на нашу сторону, преодолев без малого 400 километров по сухим болотам, последний отряд тамошних крокодилов. Кенийцы целыми деревнями мастерят жирафов, бегемотов, элефантов, расставляя их по саванне в надежде, что это привлечет настоящих зверей.
- Есть нечто еще более потрясающее: до настоящего времени обнаружено столько галактик, что их теперь считают «таким же заурядным явлением, как былинки травы на лугу».
- Но тут-то и начались настоящие трудности: то, что началось, было просто невообразимо! Оказалось, что мы не прошли еще и десятой части пути: это только разминка, выход на позиции. Диетический завтрак с кружевной салфеткой на горле.
- Но все по порядку…
- В пределах видимой вселенной находится около десяти миллиардов галактик.
- Но за пределами видимости современных телескопов существует гораздо больше.
- Итак. Африку можно только любить или отвратить от нее сознание навсегда. Но самое страшное в Африке – это люди, причем, не все люди, а только белые, и не каждый пятый, а каждый третий, пришедший в Африку единственно с целью ее завоевания, как, например: дотопать до верха Килиманджаро, переступая и через трупы! Чтобы доказать себе!
- Странный способ доказательства, думаю я: на ровном месте-то не хватает воображения, так надеются на Африку! Вот именно те-то и опасны – эти идиоты.
- Наша группа, как это следовало бы ожидать заранее, раскололась на две непропорциональные части: семеро белых ид. и я. Возглавлял партию сам Килиманджаро, взяв в заместители социального работника (они нашли друг друга еще в самолете, когда я попросила, пролетая над Сахарой, поменяться местами с этим так называемым работником).
- Чувствую, что это была первая моя промашка: не верь, не бойся, не проси – первая заповедь, когда ты оказываешься в изоляции (в замкнутом социальном пространстве). А Сахара чудная – ей Богу, – бескрайняя сахарная пустыня…иногда – пумс! – два бирюзовых глаза заворожено и немо открыты в пространство неба, откуда смотрят в ответ мои широко открытые, пропитанные стальной синью глаза из овала окошечка серебристого самолета. За бортом – минус 37! А вон струится дорога: проскакал караван! Когда-то пустыня была дном океана, и по сегодня она хранит в своем очерке отражение великих волн – какой грандиозный памятник прошлому! Пишу записку социальному работнику, который сидит в первом ряду с Килиманджаро, уставившись в телевизор под потолком: «Ничего интересного в Сахаре по вашей профессии нет, никакой статистики, никаких коллизий!»
- При этом изумляет богатое разнообразие живых существ: микроскопических организмов, насекомых, растений, рыб, птиц, млекопитающих и людей.
- Плюс – у меня еще оказалась клаустрофобия, страшная болезнь: я не приспособлена ходить в цепочках, слушаться начальников, танцевать под их дудку – болезнь свободомыслия и свободолюбия.
- А Киля и соц. раб. придумали, что идти непременно надо «гуськом», как ходят гуси.
- А я физически не могу и иду, как свободный пастух, и на первом же переходе соц. раб на меня стал орать, затопал башмаками: а-а-а-а-а-а-а!
- – Вот видите, говорю, вы уже нервнобольной, ни у кого нет валериановых капель покапать работнику на родничок? – и прохожу, собирая листья и цветы.
- – Ничего рвать нельзя! – пригрозил Килиманджаро. –Никому ничего не рвать, не трогать: все заразное.
- Тогда я говорю фотографу: ой, какая бегония, какой золотой медоед! Давайте его сфотографируем! И лианы! Лана в лианах!
- Но и фотограф тоже: у меня, мол, пленки в обрез, надо оставить только на значимые кадры!
- Ну и народ!
- Я, конечно, тут же оторвалась от всей этой теплой компании, пошла обниматься с баобабами, нюхать кочки, собирать львиный зев и плоды мальвы. Ведь на высоте никакой живности нет.
- А эти идут упрямо вперед, как каторжники. А Килиманджаро уже и нос одел, пластмассовый красный нос, от солнечного излучения. Он оглянется, а меня разбирает смех:
- – Килиманджаро! Мы же насмешим всех африканских богов!
- К тому же, Земля является гигантской кладовой, наполненной всем необходимым для поддержания всей этой жизни.
- И вот мое веселье мне вышло боком (сгустились тучи ненависти) на стоянке пошла в туалет и подломила окончательно свое подточенное колено!
- Все. Капец. Путешествие закончено.
- Все остальные планеты, прозондированные учеными, лишены этой жизни.
- Дождь. Ливень из глаз. Доскакала до домика. Эти все храпят.
- Пожаловаться некому. Может быть, венгру? У него бабушка из-подо Львова… тонкая нить кровного родства… может быть, придумает что-нибудь чудодейственное…
- Разбудила весь домик, вызываю венгра.
- – Утро вечера мудренее, сказал венгр.
- – Но я ступить не могу.
- – Все равно, надо дожить до рассвета.
Ночь не спала, лежала на верхней шконке, объятая ужасом. Меня же никто обратно не понесет. Оставят подыхать здесь. О, как это страшно! Карл, Карл, если бы ты был здесь, ты бы дал мне свое колено!
- Но Земля изобилует жизнью, поддерживаемой очень сложными системами, которые, находясь в совершенном равновесии, обеспечивают светом, воздухом, теплом, водой и пищей.
- На совете решили: непутевая девочка пойдет первой, будет задавать ритм.
И вот – я начальник партии, в голове поезда (вырз.ценз.) .
Килиманджаро простить этого не мог. Ведь он руководитель, красный командир бесстрашного дозора!
- Потихоньку, полегоньку, колченогое колено, закрепленное дощечками, расходилось, так сказать, раззудилось, взяло хороший темп. На одном из отрезков – О! этот лунный ландшафт, который мог бы воспеть Амстронг! – мы с одним из носильщиков (негритянка, носильщица!) – уже пели песни о Кибо. Она меня научила и особенным словам, от которых носильщики сгибались напополам.
- – Макако-нагонако!
- – Аликута-вакикута!
- – Куомба ква кубореха!
- – Акуна матата блямаха!
И опять наши недототепы ничего не поняли, не поддержали наши задорные клики. «Снежки», как их здесь уничижительно называют.
- Чем больше ученые исследуют Землю и жизнь на ней, тем больше они осознают, что она в самом деле великолепно спроектирована.
- Этот лунный ландшафт бесконечен. Серый пепел, черные каленые камни. Понимаешь, что ты идешь по изблеванным недрам земли. Черные-черные недра. Угольное сердце. Пек. Плавленый камень. Пепелище. Железные сгустки черной спермы Земли. Что так могло возбудить эту горловину. Пролетевший на тихом велосипеде мыслящий вслух Ангел? Муравей, забодавший, наконец, священный апельсин?
- Ужас звезд?
- Пение иволги?
- Совокупившийся человек, сказавший вдруг слово «Люблю»?
Мцаци ваке алисема мама на баба уаке валикутана ха кукатика ква ханцо ца катака Майкл Джексон баада куцалива аливасилина?
- – Скажи, – сказала я. – Кто-нибудь видел, как изливался Килиманджаро?
- – Давно это было.
- – То есть, люди не видели?
– Ученые говорят, что это было, когда жили динозавры, давно. Из-за извержения Килиманджаро они все задохнулись. А наши люди тоже тогда еще были белыми, но гарь так въелась, что мы стали черными, как твой грех. А раньше тоже белыми были, как воздух. Это ученые так бают из нашей деревни. Шаманы. Кибики. Тогда надолго восстановилась ночь. Ночь бесконечного огня. Капли дождя, говорят, не успевали долетать до земли, так было красиво. А когда развеялось, народ уж стал другим. Говорят, что-то мы там согрешили, слопали, утверждают, какой-то хитрый банан, запрещенный. Только это все сказки народов Африки, чтобы не скучно было сидеть зимой за веретеном. Тут ведь как зарядит – и льет, как из пропасти. Тут уж только держись, все улитки земли у тебя в доме – словно у них ли нет своего дома, то ли у тебя не все дома.
- Когда мы вглядываемся во вселенную и познаем сущность множества случайных событий в области физики и астрономии, которые сработали нам на благо, то впечатление почти такое, как будто вселенная должна была, в каком-то смысле, заранее знать о нашем появлении.
- В Кибо был день на акклиматизацию. Ходили на соседнюю гору, проверяли свой организм на воздействие горной болезни, когда высота уже выше 5000. Давление резко падает, воздуха – нема.
Начинается рвота, головокружение до обморока. Оказалось, что с моей ногой я не могу спускаться вниз. Мбу и венгр мне помогали три часа спускаться с этой пробной горы. А сегодня в ночь нужно идти в последний путь на саму вершину Килиманджаро. Я решила взойти во что бы то ни стало: на меня же смотрят 100 миллионов читателей! – сказала я на летучке перед отбоем.
- А я не сплю уже пять ночей, еда не лезет (нас кормят сушеными бананами), пятый день понос, психика подорвана, надежд никаких. Наш один литератор повернул из Кибо назад: его начало рвать и т.д.
Поднялись в половине 12 ночи, одели фонари. Чтобы было легче идти, я оделась почти по-летнему, а там же мороз и ветер. И вот еще что я наделала: не взяла с собой воды!!!
- А со мной уже никто не разговаривает.
- Только мы вышли, Калиманджаро пошел первым, заставив меня идти за собой, через 15 минут я сказала: все, больше не могу. Воздуха не хватает, сердце бьется, как у колибри. Раз двадцать сказала об этом Килиманджаро. Он не отвечает. Я говорю: я сейчас умру! Молчание. Я умираю! Никакого ответа. Спасите, говорю, я ведь подохну! Каменное равнодушие. Словно он никогда не предлагал мне идти за него замуж, спать с ним, жить в его доме. Наверное, он тогда от всей души желал мне провалиться сквозь землю.
- Меня вырвало.
- Я позвала Мбу.
- – Мбу, миленький, я больше не могу.
- Мбу обнажил мою грудь, подставил ее под ледяной ветер. Дал мне одного проводника, своего помощника (два в авангарде, двое в арьергарде): оставайтесь здесь, если сможете, потом потихоньку подойдете. Идти-то нам еще все равно часов 7-8.
- Я посидела, как безумная аленушка на камне: карл, карл, зачем я от тебя убежала? Теперь уж нам никогда не свидеться. Какая я дура. Братики. Прощайте. Простите мя-мя.
- – Лана, пойдем потихоньку. Ты вниз хочешь или вверх?
- – Вверх.
- Пройду шесть шагов и рухну.
- Попрощаюсь с Карлом, с жизнью, ползу вверх.
- Считаю шаги: шесть… семь… восемнадцать… двадцатьтридцать… тридцатьдвадцать… нет, по-немецки что-то я разучилась считать… начинаю считать по-украински… опять трошки не спиваю… я спиваю, мы спиваем, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы танцуем, мы спиваем! Желто-блокытный…сплела ольга. Сестре по украинской степи… Восемь негритят! Восемь девчоночек! И не прошли вы. Не прошли!
- Совершая свое годичное обращение вокруг Солнца, Земля движется со скоростью около 107 000 километров в час.
- Страшная жажда, а воды 0 (ноль целых ноль десятых грамма). Надежда на снег, но снег есть нельзя, в нем нет питательных минералов, только усиливает жажду. Хоть бы глоток посреди этой горячечной ночи. Вон японка идет. Прошу водицы напиться. Пожалуйста. Японка (или это японский даун, как господь?) открыла термос, наливает, я облизываюсь, а лунный даун – хряп! – и выпивает мою воду. Наливает по второй. И так смотрит мне в глаза зверски – и, конечно, выпивает и вторую. Садисты. Я шарю вокруг себя: нет ли у меня какого-нибудь с длинной рукояткой головоруба? Маленькой мортиры? Катапульки? Немножко налила в крышку. Да, до чего же мы дошли!
- Проводник все-таки где-то раздобыл у своих товарищей воды. Вот что значит, настоящие африканычи!
- Только обратно-то мне все равно не вернуться. Это к бабке не ходи!
- Кроме того, Земля последовательно совершает каждые 24 часа полный оборот вокруг своей оси.
- Каким-то странным образом, скосив путь, мы очутились на плато до восхода солнца, когда наших еще не было. Я подняла голову со льдины:
- – Акуна матата, ёбс вашу мать, а где же Килиманджаро?
- – Какой Килиманджаро?
– Ну, кличка у него такая – Килиманджаро, такой большой добрый человек с пластмассовым носом.
- – Как, где? А вы разве его не встретили?
- – И не думали.